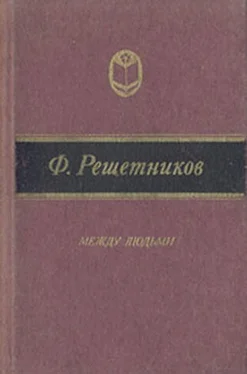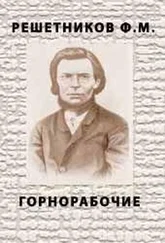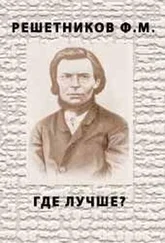— Кто их знает…
— Ты уж такая. Знашь, я нездорова…
— Опять; выздоровела…
— Молчи!
— Ей, Мирониха? здорово! — сказал сидящий у окна противоположного дома мужчина лет тридцати, кум Марфы.
— Дома молодуха-то? — спросила в свою очередь Мирониха.
— Дома. Здорова ли? — спросила показавшаяся в том же окне женщина лет двадцати, с хлебной чашкой в руках.
— Слава богу, молодуха.
— А мы думали, што уж и конец… А в который раз-от?
— Што ты, девонька: в девятый вчера… — И Мирониха ушла во двор.
Управившись с коровой, то есть давши ей корму, сделавши ей пойло в ведре, Мирониха сбегала в огород, который тянулся по горе семисаженными грядами, с четырьмя парниками. На грядах росли преимущественно: лук, картофель, капуста, морковь и редька. Все это, кроме лука, плохо еще поднималось. В варниках росли огурцы; они уже цвели. Походивши около гряд, посмотревши и удостоверившись, что все обстоит благополучно, она взглянула в соседние огороды.
— Ишь, плехи! и тут, что есть, смекальства нет, лежебокие! — сказала она громко и пошла в баню. Выдвинула она одну половицу, спустилась в сырое мокрое место, пощупала что-то там, вышла оттуда, задвинула доску и пошла во двор. Во дворе она подоила корову и выгнала се на улицу, перекрестив ее предварительно и сказав: ступай с богом!
В это время вышел на крыльцо, находящееся во дворе и выходящее из сеней ее дома, человек лет сорока восьми, очень невзрачной наружности. Он был в халате и босиком. В зубах он держал трубку.
— Эк те подняло ни свет, ни заря! — оказала ему Мирониха, входя на крыльцо.
— Голова болит, Матрена Власовна.
— Голова болит! Кто велит пьянствовать-то? Мужчина стал умываться из висящего на веревочке железного рукомойника, похожего на кружку с носом-рожком.
Вошла Мирониха в кухню, какой позавидуют, да и завидовали, приреченские чиновницы, навещавшие Мирониху. Направо большая печь, обеленная, с приступками, против печи широкие полати, у двух стен лавки; в переднем углу стол. Стены хотя и не выбелены и не оклеены бумагой, но, несмотря на то, что дом сделан из бревен, обтесанных по эту сторону, они так гладки и желты, как будто моются каждую неделю. Стена против печи, под полатями, чуть не вся исписана мелом какой-то грамотой: идут целые ряды оников, крестиков, палочек и каких-то кривых линий. Пол, лавки, стол и приступки у печи очень чисты и желтоваты, что доказывает то, что они часто моются. Она вошла в комнатку с двумя окнами, тоже чистую, веселенькую. На окнах стояли цветы: бальзамины, алоэ, розан. На одной стене висят в рамках пять картин литографированных, разного содержания. Против окон у стены стоит кровать с периной и подушками, под кроватью валяются сапоги, и все это задергивается ситцевою занавескою или, по-заводски, пологом, а в углу, между кроватью и кухонною печью, выдающеюся сюда одним боком, стоят два больших сундука. Комната даже нисколько не отличается от городской: в ней есть большое, но простенькое зеркало, восемь стульев, два крашеных стола и половики на полу.
Мирониха сняла половики и вытащила их на крыльцо. Мужчина уже утирал лицо какой-то большой чистой тряпкой.
— Ефим! тряси-ко половики-то.
— Дай утереться.
— Туды же еще и умываться вздумал! — И она ушла в кухню. Там под лавкой лежал веник в ведре. Она спрыснула из рта пол в комнате и стала мести его. Немного погодя Ефим принес половики в кухню и держал их перед дверьми в комнату, смотря, как Мирониха, нагнувшись в три погибели, метет пол, то справа налево, то слева направо.
— Чего ты стоишь-то? — крикнула она на Ефима. Ефим вздрогнул.
— Чево там! — произнес он.
— Запылю половики-то! Положи на лавку, образина!
— Самовар-от ставить?
— Ишь! А ты дал мне денег-то на чай?
— Ну… опять, — сказал смиренно Ефим.
— Чево? на шкалик небось надо?
— Хм! — улыбнулся широко Ефим.
Смешон казался в это время Ефим. Пожелтелое, небритое его лицо принимало различное выражение; глаза то семенили направо и налево, то смотрели на Мирониху. Он походил теперь на собаку, готовую по первой кличке броситься к хозяину. Его кожа на лбу то сморщивалась, то лоснилась, отчего стриженные гладко волоса то поднимались, то садились на свое место, уши растопыривались. В нем проявлялась то боязнь, то покорность, выражаемая тем, что он, высовывая из-за печки голову, держал руки назади, щипля пальцами свой халат. В это время можно было, наверное, сказать, что он думает: «А надую же я тебя, чертова кукла».
Читать дальше