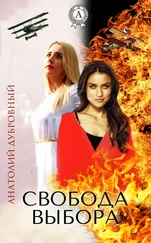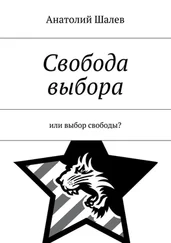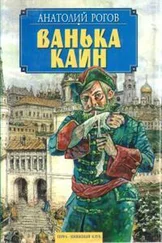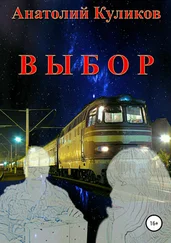На самом же деле семнадцать человек обличили в Новгороде аж за несколько лет, то есть их было совсем мало.
Волоцкий нарочно нагнетал обстановку, чтобы посильнее напугать великого князя тем, что может произойти с церковью. Истинные же причины сих нагнетаний крылись в совершенно другом.
Третью русских земель владели тогда монастыри и церковные приходы. И многими-многими тысячами крестьян владели. Были монастыри и храмы очень богатые. Владетельные люди ведь без конца одаривали их кто пашнями и лесом с деревнями, кто реками и озерами с рыбными ловлями, кто житом и скотом или лошадьми, или деньгами, или золотом и мехами да серебром и серебряной церковной утварью - мало ли чем. И знатные постриженники делали в обители изрядные, а то и огромные вклады. И все заказные требы священнослужителям непременно оплачивались. Были у монастырей и разные доходные промыслы и рукоделия. А некоторые, в том числе и Иосиф Волоцкий, даже ростовщичествовали; ссужали деньги частным лицам под большие проценты.
В тысяча четыреста девяностом году в Москве собрался очередной священный собор, и присутствовавший на нем Нил, к тому времени уже прозванный Сорским, первым громогласно заявил, что подобные стяжательства монастырей несовместимы с иночеством, ибо человек постригается для того, чтобы уйти от мира сего, от всего мирского, чтобы устроить душу свою и спастись - ибо в миру спастись "не можно". И иночество - первый ангельский чин, инок - Божий воин на земле, и на небеси он тоже будет в ангельском воинстве - как же он может радеть о земном, что-либо стяжать, хапужничать, чревоугодничать? Только праведными трудами рук своих обязан он добывать пропитание себе и только самое необходимое.
Не делаяй (не работающий) да не ест.
Лишь при полной немощи - по старости или в увечье - монах вправе попросить милостыню. Так заповедовал Христос. Так жили все пророки, апостолы и великие подвижники...
Нила горячо поддержал высокочтимый, мудрейший старец Троице-Сергиева монастыря Паисий Ярославов, которого великий князь уговаривал принять сан митрополита, но тот отказался, как наотрез отказался и от игуменства в своем монастыре.
И епископ Коломенский Тихон поддерживал Нила.
И старцы Валаамовой обители.
Причем все они подчеркивали, что те, кто стоит за стяжательство, не просто заблуждаются, но преследуют совсем не божественные, недостойные, постыдные цели, и взывали к великому князю, чтобы он вмешался во все это, повернул стяжателей на путь истинный - отобрал у монастырей и больших приходов все их излишние владения и богатства.
Нила, Паисия и их сподвижников тут же окрестили нестяжателями и еще заволжскими старцами, потому что большинство их оказалось из тех мест.
Иван Васильевич и сам думал очень похоже и, конечно, благоволил им, их речам и призывам. Да и как было не благоволить: послушай он их - его личные богатства выросли бы в несколько раз! Но тогда бы такие монастыри, как Волоцкий, Троице-Сергиев, Соловецкий, и некоторые епархии из его верных союзников, молитвенников и помощников в самых разных делах могли превратиться во врагов, и, может быть, надолго. И это при растекающихся по Руси ересях.
Иван Васильевич, конечно, видел, как Волоцкий со своими единомышленниками все усугубляет, сгущает, дабы посильнее напугать; приплел даже к жидовствующим его личного дьяка, главу Посольского приказа, многознающего умницу Федора Курицына, будто знает его лучше, чем он...
Короче говоря, государь Иван Васильевич хотел, но не решался.
Не мог решиться отобрать у монастырей лишнее.
Зато сделал другое очень важное. Геннадий с Иосифом на том же соборе с пеной у рта требовали казней для еретиков, кричали, что король испанский уже давно своих еретиков огнем сожигает, и нам-де надобно так же. А Нил им гневно в ответ: "Что, у Бога не хватит сил самому, что ли, исправить заблудших, неразумных чад своих? Не поносить, не укорять, а исправить! Вы почему за него, за Господа-то, решаете? Вы кем себя возомнили?! Кем?!" И Паисий так же полыхал и громил их, и отвратили, не дали завести и на Руси латинскую инквизицию, опозорить и православие смертным разгулом.
Великий князь взял да вызвал из Новгорода Великого обвиненных в ереси протопопа Алексея и попа Дениса и первого поставил протопопом в Успенский Кремлевский собор, а Дениса попом в свой великокняжеский Благовещенский. И с Федором Курицыным общался намного чаще, чем прежде, как по делам иноземным, так и по многим иным наиважнейшим. Игумена же Волоцкого не принимал совсем, хотя тот добивался встреч не единожды, умолял даже некоторых приближенных к государю бояр посодействовать ему в этом - ничего не получалось...
Читать дальше