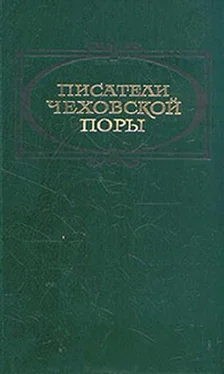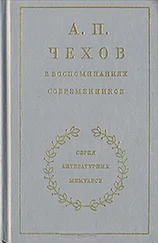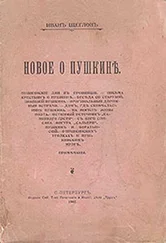Но вот к антрепренеру подбегает сценариус и докладывает, что только что приехал Дреймадеров.
— Ну, слава богу! — восклицают в один голос гастролер и антрепренер.
— Караулов! — командует последний, — вы играете прежнюю роль нищего… Бегите и переодевайтесь… да смотрите поскорей… сейчас даем занавес!..
И Караулов, не успевший еще прийти в себя от неожиданности, стремглав бросается в уборную, быстро совлекает с себя мешковатый костюмерский редингот лондонского банкира, отрывает чуть не с мясом со щек рыжие бакены и мигом переоблачается в обдерганную нищенскую блузу, напяливает на голову театральную лысину, наскоро гримируется и спешит опять на сцену, почти на ходу подклеивая себе седую нищенскую бороду.
Действительно, надо было быть кожаным актером, чтобы претерпевать такие жестокие превращения!..
Был, впрочем, в жизни Караулова один такой день, когда он самым решительным образом вышел из своей кожи и поразил игрой как зрителей, так и товарищей по сцене; но этот день оказался роковым для злополучного кожаного актера, точно судьба, снисходившая к его кожаному существованию, захотела наказать его, когда он осмелился перейти положенный предел.
В этот день в «Ситцевом клубе» шла какая-то раздирательная французская мелодрама, в которой на долю Караулова выпала ответственная роль старого наполеоновского генерала, губящего против своей воли родную дочь, тайно влюбленную в молодого графа, передавшегося на сторону Бурбонов [12] Бурбоны — королевская династия, правившая во Франции в XVI–XIX вв.
. На этот раз роль была доставлена в Коломну, против обыкновения, за целые три дня до спектакля, и Караулов имел полную возможность приготовиться как следует. Он бы, наверное, и приготовился; если б эта присылка не совпала несчастным образом с болезнью Авдотьи Ильинишны, давно страдавшей нервно-желудочными припадками. Перемогавшаяся уже несколько дней; она в самый день спектакля занемогла настолько серьезно, что потребовалось немедленное вмешательство врача — обстоятельство, к которому чердачный люд, как известно, прибегает лишь в очень крайних случаях.
Бедный Доря сидел сам не свой у изголовья нежно любимой сестры, около столика, уставленного лекарствами и тревожно вглядывался в ее страдальческое, изжелта бледное, как восковой слепок, лицо. В руках у него был градусник для проверки температуры, не обещавший ни чего успокоительного, а на коленях валялась тетрадь с ролью наполеоновского генерала. Он отлично знал, что роль была выигрышная и что деньги в доме нужны были до зарезу, но горе пересиливало практические соображения и громкие фразы «генерала» о Наполеоне и славе Франции скользили в его расстроенном мозгу, как что-то совсем ему чуждое, никому не нужное и жалко-смешное. Под влиянием душевной тревоги Караулов уже было решил послать в театр отказ (единственный в своей жизни!) но к вечеру Авдотье Ильинишне как будто полегчало и он отправился.
Один бог ведает, что было внутри у Караулова, когда он вышел на сцену в мишурном и полинявшем мундире французского генерала, загримированный на манер оперного гугенота [13] См. коммент. на с. 459.
, и начал свою роль!.. Было бы больше чем несправедливостью обвинять его теперь, что он вел первые три акта мелодрамы как заурядный кожаный актер. У Караулова на душе была своя сильнейшая мелодрама и, разумеется, ему мало было заботы до коварного графа, передавшегося на сторону Бурбонов. О, пусть бы он передался на сторону самого черта — лишь бы не тянул та монологов и скорей кончал пьесу!..
В предпоследней картине у Караулова была совсем коротенькая сцена у постели умирающей дочери: генерал входит и хочет видеть умирающую, а доктор всеми силами старается удалить несчастного старика. Готовясь к ней, Караулов внутренне ликовал, что спектакль близится к концу… Но когда он вышел на сцену и увидал глубине алькова маленькую, худенькую актрису, неподвижно лежавшую в постели с лицом покойницы, — с ним произошло что-то необычайное… Сколько раз, кажется, он видал на сцене набеленных умирающих героинь и ни когда не чувствовал к ним ничего, кроме брезгливости. Теперь же сходство положений внезапно осветило ему драму во всей ее потрясающей правде… Все, начиная, от полинявшей драпировки алькова до олеографии в позолоченной раме на стене, как нарочно, переносило его от поддельной театральной обстановки на берега реки Пряжки, к настоящему человеческому страданию…
Читать дальше