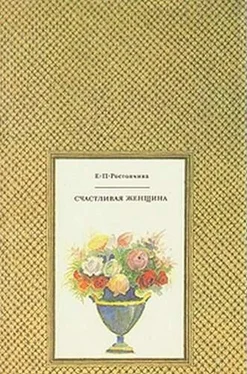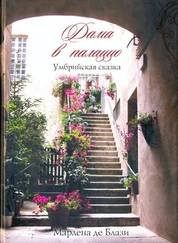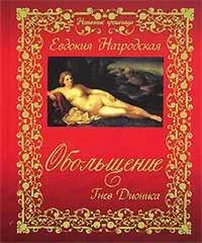Маркиза была написана незадолго перед смертью в строгом и простом одеянии, приличном ее годам и трауру: морщинистое, но спокойное и доброе лицо озарялось выражением глубокого горя и неземного утешения; белые руки ее опирались о бархатные кресла и держали молитвенник и четки; поверх кисейного чепчика ослепительной белизны черный флер покрывал ее голову и подвязывался густыми складками ниже подбородка; седые волосы осеняли мыслящий лоб; большие, нежные глаза дышали задушевностью и чувством. Старушка была величественна и привлекательна в своей благородной простоте.
Ашиль де Монроа подошел к портрету маркизы Жоржетты более чем с простым любопытством: какое-то подавленное волнение изображалось в его взорах, и когда он почтительно наклонил голову перед страдалицей — примером и честью женского пола, — можно бы было заметить, что он с трудом удерживал слезу умиления, готовую пробиться сквозь оболочку беспечности и равнодушия, которые он старался сохранять.
Но в ту же минуту Пиэррина, преклонившая колена, чтоб поцеловать руку у портрета многолюбимой своей бабушки, нечаянно обратилась к Ашилю и вскрикнула, немного покраснев.
— Что с вами? — спросил удивленный гость.
— Ничего… право, ничего!.. Но… мне показалось… Нет! не может быть!..
— Да что не может быть? скажите, умоляю вас, синьора маркезина!
Падрэ Джироламо и Чекка присоединили свои просьбы и расспросы к убеждениям Ашиля.
Пиэррина, смущенная, призналась наконец, что ей показалось, может быть, почудилось, что синьор Ашиль похож на ее бабушку, с которой она имела еще другой портрет, миниатюрный, снятый в молодости маркиза. Она сама шутила над этим странным сходством, но не могла истребить его в своем воображении.
— Долг платежом красен, синьора! — отвечал француз. — Я принял за вас прапрабабушку вашу Джиневру, а вы хотите видеть во мне черты вашей родной бабушки, маркизы Жоржетты… мы квиты!
— Нет, не черты бабушки, а взор ее, улыбку и что-то неуловимое в самой физиономии… Может быть, общее национальное выражение северных французских лиц? (Для Италии — и Франция уже север!) — Ведь недаром вы соотечественник моей милой, незабвенной бабушки! У вас с ней один и тот же тип. Я не много видала иностранцев, потому и узнаю их всегда с первого взгляда, по отсутствию тех примет, которые мы привыкли с детства встречать на всех чисто итальянских лицах.
Так защищала свое мнение маркезина и, надо сознаться, довольно неловко.
Падрэ и кормилица смотрели во все глаза на Ашиля и кончили тем, что согласились с своею любимицею: также нашли что-то родное между молодым человеком и покойною маркизою. Ашиль не возражал. — Долго еще занимались они осмотром родословных книг и хартий дома Форли; солнце садилось, и мрачная галерея совсем терялась в сумерках, когда гость, кончив свое посещение, испросил позволение явиться вторично к синьоре маркезине.
IV. Житье-бытье маркезины Пиэррины Форли
Несколько дней спустя, часу в шестом, по-нашему, и в двадцать первом, по счету итальянцев, начинающих считать сутки от захождения солнца и продолжающих до следующего заката, не разделяя часы пополам на 12 ночных и 12 дневных; итак, часу в шестом, незадолго до сумерек, звон колоколов призывал набожных к вечернему — аве Мариа, или к третьему и последнему прочтению Богородичного гласа; ставни домов стали открываться, сторы подниматься, и набережная Лунг-Арно, пустая и безмолвная в послеобеденные часы, снова оживилась суетливыми пешеходами и быстроскачущими колясками и каретами. Светская и уличная жизнь возобновлялась после ежедневного обычного отдыха внутри домов и семейств; всякий шел или ехал, куда ему было надобно для своего удовольствия, редкие по делам, ибо дел не было в праздновавшей тогда Италии, не пользовавшейся в тридцатых годах теперешнего века жизнью современных народов, но зато освобожденной от их хлопотливой деятельности, от их вещественных интересов. В Италии всякий, еще за немного лет до настоящей эпохи, думал только о себе и о наилучшем употреблении в свою пользу или свое наслаждение длинных или коротких дней, дарованных ему Господом Богом. Благодарные небу за легко приобретаемые и всем равно доступные прямые блага жизни, за животворный воздух, за благодатное солнце, за прелесть дивного края, за изобилие плодов земных и дешевизну насущного хлеба, итальянцы довольствовались тем, что имели, и не гонялись за новизною. Для них житейские перемены состояли только в чередовой перемене времен года, в урочном переходе от зимней одежды к летней, от шумных удовольствий карнавала к более разбросанным и тихим наслаждениям вилле-джиатури — тзагородной и деревенской жизни. Теперь — другое дело: теперь все народы западной Европы утратили свою собственную личность и более или менее похожи один на другого: везде одинаковое направление, везде беспорядочный хаос. Дольче-фар-ниэнте уничтожен, забыт во Флоренции, как и в других итальянских городах; только женщины, да некоторые ученые аббаты, отвлеченные книгами от людей и созерцанием минувшего от столкновения с настоящим, только они помнят и хранят древние нравы, предаются полуденной сиэсте и с первым звоном вечернего колокола выходят и выезжают на опустелые гулянья. Новое поколение перешло к кофейной жизни, к клубам, убивающим всякую общительность. Многим это незабавно и тягостно; многие не по убеждению и не по увлечению упорствуют в этих привычках, но из подражания другим. Между тем покинутые женщины скучают…
Читать дальше