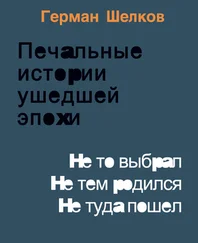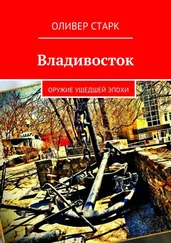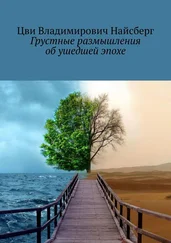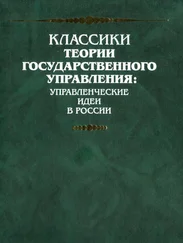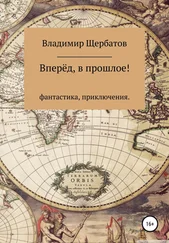Когда я нашел много времени спустя где-то заброшенные в комоде мои рисунки-портреты углем того времени, живо вспомнились эти утренние классы Пастернака на шестом этаже на Мясницкой. Рисунки меня обрадовали; в них были серьезные достижения и отмечены они были Пастернаком как подающие весьма большие надежды. "Вся беда, что вы князь, - сказал он мне раз полушутя, выйдет ли из вас художник, - это вопрос, а мог бы выйти, судя по способностям".
О, эта гиря моего титула! Из-за него я всегда был под подозрением в художественной среде, не раз мне приходилось считаться с ее тяжелым весом.
По окончании университета, меня сильно разочаровавшего, мне предстояли знаменательные встречи и совещания с Пастернаком, мнением которого я дорожил, решившие мою судьбу, когда я покинул Москву.
ГЛАВА III
К Москве я был привязан крепко и традициями и моей любовью, нежной и глубокой к этому столь обаятельному в те времена городу, единственному в мире по особому и трудно описуемому шарму. Только Константинополь и Севилья, во многом схожие с Москвой, дали мне некоторое ощущение подобное тем, которое давала Москва. Все русское мое нутро питалось Москвой. Чем более с годами в художественном сознании отстаивались понятия о подлинной самобытной красоте тех или иных явлений и образов (а сколько в прежней Москве было самобытного), тем глубже я ценил всё то, что в Москве было необычайного и единственного по красоте, прелести и живописности, не только официально могущих быть признанными в смысле исторических памятников мирового значения, но не всеми, кроме художников, угадываемых.
Наряду с этим и наряду с очень богатой сферой музыкальной и литературной, в сфере пластического искусства в Москве не было художественных флюидов, нужных для развития имевшихся в ней национальных молодых художественных сил. В моем быту эти флюиды отсутствовали почти полностью.
Почему их не было? При таком богатстве русской музыки и после столь великого культурного национального дела Павла Михайловича Третьякова (основатель Третьяковской галереи) проложившего путь для художественного развития в Москве. Почему, с одной стороны, узкий консерватизм, обскурантизм, шовинизм, с другой стороны, наряду с этой косностью, увлечение новинками французского искусства с его завораживающей москвичей модой пряной, соблазнительной и столь часто сбивчиво опасной? Это сложный и глубокий вопрос, связанный со всей установкой нашей национальной общественной жизни, художественной культуры, преподавания и нашего отношения к Западу, со всем, что в этом было непродуманного, неуглубленного, поверхностно-легкомысленного. Отсюда, наряду с указанным шовинизмом и беспомощным консерватизмом, отсутствие подлинной динамики в национальном творчестве со всем, что в нем имеет быть преемственного и наряду с этим творчески-живого.
Вся история искусства свидетельствует о взаимных влияниях живописи одной страны на другую; фламандской на итальянскую и обратно, итальянской на испанскую, французскую и т.д. но вряд ли где-либо, кроме как в России, имело место такое раболепство пред чужим, такая недооценка своего, такое впрямь незнание своего, такое пренебрежение к голосу крови, к великим традициям старого, сложного по своему внутреннему составу - востоко-итало-русского, и все же русского по духу искусства. Подчас непростительное незнание и грубое, тупое непонимание значения величия того, что создано было в веках народом, шло рука об руку с поверхностным культом всего чужого, нового, в силу этой новизны интригующего и ослепляющего.
В стране, не имевшей своего Ренессанса, но имевшей столь великое Византийское наследие, развившейся на иных, по сравнению с Европой, путях, с уже столь потерпевшей насилие культурой, но со своей природой, со своим особым человеческим ликом, с прекрасным самобытным народным творчеством, талантливейшими кустарями, с величайшими национальными сокровищами искусства, казалось бы, нужно было сугубо бережно вести художественное воспитание чувства и глаза и художественного сердца, а не бросаться в авантюру, нередко заражаясь чужеземным авантюризмом, не отличаемым от того, что чужеземное может дать ценного и нужного, будь оно осторожно и мудро осознано и претворено.
Тема эта глубокая и сложная и здесь не место развивать ее.
С вышеуказанным связана была в России и личная, не редко весьма печальная, судьба наших русских художников, что особенно грустно.
Читать дальше