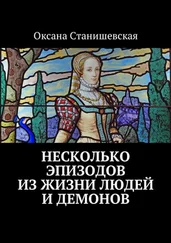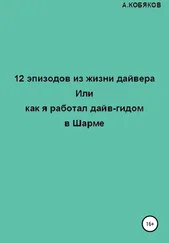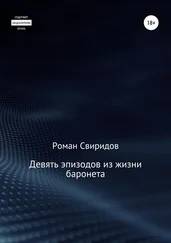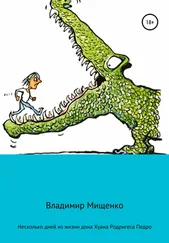Вот такими, в начале 90-х, мы оказались на Земле Израиля. Что у нас было? Знания, прожекты? Несомненно. Амбиции и абсолютная уверенность в том, что мы лучше и умнее всех ближневосточных аборигенов? Что ж, не без этого. Хотя сейчас и стыдно в этом признаваться. А вот чего нам тогда сильно не хватало, так это - знания языков, умения хоть сколь-нибудь адекватно оценивать окружающую действительность и свое, весьма скромное, место в ней. Не было также навыков ведения более-менее цивилизованного бизнеса. И конечно - не было денег. Даже не тех денег, на которые можно было бы обосновать маленький, но свой "Майкрософт". Но просто - денег на жизнь. Государственная помощь новым репатриантам закономерно прекратилась спустя полгода по прибытии, ни одна из многочисленных научных и околонаучных организаций не спешила отвечать на мои, написанные на корявом английском, письма с "жутко выгодными" для Израиля проектами. Да и местный Хай-Тек1 (фирмы, занимающиеся высокими технологиями) тоже не спешил прибирать к рукам столь ценных специалистов, коими мы сами себе казались. Увы, реальность оказалась весьма прозаичнее радужных представлений о собственной полезности.
Так я оказался заурядным Шапировским степиндиатом (это что-то вроде аспиранта-исследователя с зарплатой, слегка превышающей пособие по безработице) при Департаменте Материаловедения Негевского Университета имени Бен-Гуриона. Леонард нашел себе место сменного технолога на полупроводниковом заводе фирмы "Делл" в Димоне. Ну а Федотыч, накрепко привязанный к жене, проходящей курсы подготовки к сдаче врачебного экзамена в Тель-Авиве, устроился радиомастером в телевизионной мастерской в Ришон-ле-Ционе. В общем, каждый из нас был, как говориться, при деле. И ни один не был доволен ни тем, что он имеет, ни своим теперешним местом на новой Родине - в начале второй жизни. Претензии на особое предназначение еще не стерлись мутной лавиной бытовых проблем. Но ленивый стиль спокойной и в меру сытой левантийской жизни уже начал засасывать в свой тягучий поток. А потому - вяло хотелось большего. Не хватало лишь импульса, стартового толчка для вырывания себя из текучки повседневных дел.
Открытие
Впервые я начал задумываться о реальной возможности отрулить в сторону от привычной исследовательской рутины года через полтора после начала работы в Университете. Тогда я впервые попробовал изготовить монокристаллические пленки высокотемпературной таллий-бариевой керамики, добавляя при этом небольшие количества солей ртути и свинца. Ничего принципиально нового - подобные пленки уже были описаны в литературе. Как и то, что ртуть повышает температуру перехода в сверхпроводящее состояние на пару градусов. Каково же было мое удивление, когда измерения показали, что температура перехода у получившихся пленок градусов на 20 выше, чем у любых других образцов, известных современной науке. И это уникальное свойство мои пленочки сохраняли в течение долгого времени. Я взвился - ну что вы, это же открытие! Не Нобелевская премия (ее, за подобного рода керамики, в 1987 году отхватили сотрудники Европейского исследовательского центра "Ай-Би-Эм" швейцарцы Мюллер и Беднорц), но все же весьма серьезный прорыв в науке и технологии. Сопровождающийся, как водится, признанием и должностным продвижением. Именно серьезность возможных последствий плюс элементарная научная добросовестность и побудили меня не митинговать об успехах на каждом углу, но, прежде всего, попробовать понять почему это происходит. Из того же набора веществ я синтезировал поликристаллические керамики. - Увы, но эти керамики демонстрировали свойства, вполне соответствующие известным литературным данным. Я повторил опыт с напылением пленок - и снова получил аномально высокую температуру перехода. Результаты интриговали. Бросился проверять химическую чистоту исходных материалов - все было в пределах установленных стандартов! Тогда решил проверить саму установку для напыления. И - нашел! На вольфрамовой лодочке спаттера, откуда пылился свинец, я обнаружил следы солей теллура. Кто-то из моих предшественников, скорее всего - перманентно беременных девиц-докторантов, занимался теллуридами и просто-напросто забыл, в силу свойственной многим студентам безалаберности, тщательно промыть спаттер. А что, теллур - реактив не очень токсичный - можно бросить и так. Мне, наученному еще в студенчестве азам твердотельного синтеза, и в голову не пришло бы хоть что-то оставить не промытым. Но, либо местных студентов учат чему-то другому, либо мой неизвестный предтеча был просто неряшливым болваном - произошло то, что произошло! Спасибо тебе, мой безымянный соавтор. Дальше я, как-нибудь, и сам разберусь!
Читать дальше