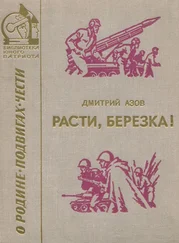А на море меня привез дедушка. Была такая замечательная команда: я и дедушка.
Поздно вечером я возвращался в нашу комнату на первом этаже через окно, потому что дедушка уже спал. А мне было не до сна, я бродил как лунатик за своей любовью, мне надо было видеть ее все время. А если строгая мать уже загоняла ее домой, мне надо было видеть дверь, за которой она скрылась, ступеньки, по которым она шла, скамейку, на которой она только что сидела...
Удивительно, как дедушка все это понимал. Он не только не пытался загнать двенадцатилетнего мальчишку домой, он даже не требовал, чтобы тот непременно явился к такому-то времени. Хотя, конечно, не мог уснуть, пока не заскрипит оконная рама и я не спрыгну в комнату. Тогда меня это не удивляло. Мне казалось, что если я влюблен, то и дедушке не может не нравиться эта девочка. Он должен обожать ее.
Сейчас, когда у меня у самого дети-подростки, я поражаюсь тогдашнему дедушкиному долготерпению, его философскому спокойствию. Понятно, что это спокойствие было лишь внешним, он безумно волновался за меня, но как он держался! Ни разу ни единым словом не усомнился в достоинствах моей избранницы. Ни одного упрека по поводу моего полуночного образа жизни. Ни одной насмешки над моей рассеянностью, бессмысленной улыбкой или внезапными слезами...
Он не просил и не требовал от меня ничего рассказать, понимая, что слова беспомощны, а объяснения (или, как сейчас говорят, "выяснения отношений") опасны, если не убийственны. Я только видел, что он счастлив вместе со мной. А когда она уехала, дедушка был несчастлив так же, как я.
Я и в последние дни перед отъездом возвращался в нашу комнату через окно. Створки были приоткрыты доверчиво, как всегда. Все по-прежнему, только ее не было. Я сидел на подоконнике и вспоминал, как две недели назад шел дождь и я сидел вот так же, свесив ноги на улицу, рядом сверкала и грохотала водосточная труба. И, глядя тогда на дождь, я понял, что люблю. Это был проливной дождь - быстрый, смешанный с солнцем. Не знаю, отчего я тогда не взлетел.
Потом я ходил с толстым томом Достоевского, а она была прекрасна... Потом мы познакомились - вместе ухаживали за одним котенком. Ходили на танцы - нет, не танцевали, просто стояли рядом, смотрели, как взрослые танцуют. Мне тогда захотелось немедленно научиться танцевать. В школе мы разучивали только полонез.
Я побежал в соседний корпус. Из радиоточки доносилась музыка. Я бросился к какой-то тетеньке, умоляя срочно научить меня вальсировать. Я не доставал ей и до плеча, но мужественно взял этот снисходительный урок. Краснел, пугался своей руки на женской талии, загребал ковер, наступал на ноги даже самому себе... Танцы в клубе тем временем закончились.
Спустя два дня она уехала. Ее увезли. Далеко-далеко. Ее город теперь тоже - заграница. Но разве это имеет хоть какое-нибудь значение?
Проснусь и бегу утром к морю.
...Нельзя рассказать о любви. И просить рассказать о ней тоже, наверное, нельзя. Ведь это не проза и даже не стихи... Это - любовь, о ней никогда не получится рассказать.
И все-таки я иногда достаю старую тетрадку и вписываю туда еще несколько приснившихся мне строк.

![Дмитрий Горбунов - Ворона Ивановна [Рассказы]](/books/28311/dmitrij-gorbunov-vorona-ivanovna-rasskazy-thumb.webp)