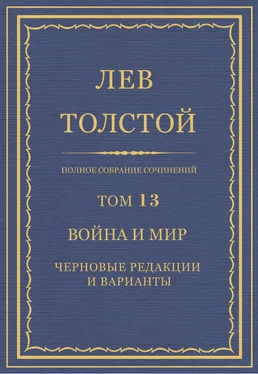— Ну что ж вы молчите? — крикнул полковник [1534]. — Кто у вас там в венгерца наряжен?
— Полковник... — голос оборвался у капитана.
— Ну что полковник? Полковник, полковник, а что полковник, никому не известно. [1535]
— Полковник, это разжалованный... — выговорил капитан с таким видом, как будто для разжалованного могло быть допущено исключение.
— Что он в фельдмаршалы разжалован что ли? Или в солдаты? А солдат, так должен быть одет как все, по форме.
— Полковник, [1536]вы сами разрешили ему походом.
— Как разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, — сказал полковник, [1537]остывая несколько, [1538]— разрешили... вам что нибудь скажешь, а вы и... Вот всегда так, молодые люди, что нибудь скажешь, а вы и, что? — сказал полковник, снова раздражаясь. [1539]— Извольте одеть людей прилично. — И полковник, оглянувшись на адъютанта, своей вздрагивающей походкой, выражавшей всё таки не безъучастие к прекрасному полу, направился к рядам 3-й роты. [1540]
— Как [1541]стоите? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек на пять не доходя до [1542]солдата, одетого в [1543]синеватую шинель. Солдат этот, отличавшийся от других свежестью лица и шеи и длиною вьющихся белокурых волос, медленно выпрямил согнутую ногу и прямо светлым и наглым взглядом весело смотрел на лицо полковника. Отвесно прямая черта его верхней губы в середине клином опускалась на нижнюю, в углах губ оставались две улыбки. [1544]
— Зачем синяя шинель? Долой! Фелдвебель...
— Полковник разрешил.
— Опять! Я вам дам...
Но в это мгновение полковник поравнялся с Долоховым и глаза их встретились. Полковник замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.
— Извольте переодеться, прошу вас. [1545]
— Едет! — закричал махальный.
Полковник выбежал вперед, выпрямился, вынул шпагу с счастливым решительным лицом, на бок раскрыв [1546]рот, и из затянутой мундиром выпуклой груди зазвучал такой страшно сильный голос, что ясно было: что бы ни предлагали полковнику в награду, чем бы ни угрожали полковнику, он не мог закричать громче этого.
— Смирно! — закричал полковник.
По широкой, обсаженной деревьями, большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибко рысью ехала высокая, голубая, венская коляска цугом. За коляской скакала свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в белом мундире. Они о чем то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся в то время, как он, тяжело ступая, спускал ногу с подножки.
По тому, как полковник салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь и прижимая руку к козырьку, как он, наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как вздрагивал при каждом слове и движении главнокомандующего, видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника.
Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии срав[нительно]
* № 20 (рук. № 60. Т. I, ч. 2, гл. III).
<���и аристократическом обществе, как понял князь Андрей из разговора высшего венского общества, зависел преимущественно от его внешней ничтожности, не самим им признаваемой плебейской незначительности, соединенной с трудолюбием и немецкой честностью; его считали только хорошим исполнителем и добросовестным теоретиком, почти маниаком своих военных теорий. Князь Андрей знал, что Кутузов заседал несколько раз в том знаменитом Гоф Кригсрате, над которым так ядовито подтрунивал его старик отец и, хотя не знал подробностей прений в этом военном совете, он замечал, что все были довольны Кутузовым за его непривычную после Суворова уступчивость, и казалось ему, что Кутузов смотрел на все эти совещания только, как на необходимую формальность, и был вполне уверен в своей будущей свободе действий. На придворных балах, на которых должен был присутствовать князь Андрей, он встретился с своими соотечественниками и знакомыми дипломатического корпуса. Его поражало их спокойное, роскошное житье, с светскими венскими интересами, не имеющее ничего общего с предстоящею войной, бывшею для князя Андрея главным делом жизни. Возвратившись к войскам, он испытал чувство удовлетворения и успокоения при виде серых шинелей, штыков, зеленых лафетов и кавалерийских, замундштученных лошадей. Но несмотря на братское, почти нежное чувство, которое возбуждал в нем вид каждого, даже темного, пехотного офицера, он и к своим штабным товарищам оставался так же надменен и чужд, как и прежде.
Читать дальше