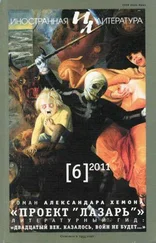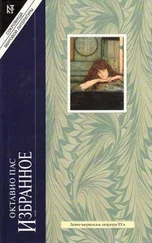Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым -- обнадежно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, -- но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, -- а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об их выплеске, но мерок -- измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира -- не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особной жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок -- и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.
И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей, не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Все же дальнее, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признается нами, со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, -- в общем вполне терпимым и сносных размеров.
В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно, он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника освободить нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!
То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале, вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или "карцер", где кормят белыми булочками да молоком, -- потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены -- и тюремные сроки по двадцать пять лет и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.
И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чуждого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.
5
Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета -- для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно тяжко и невыносимо, а что только поблизости натирает нам кожу, -- и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это -- искусство. Это --литература.
Читать дальше