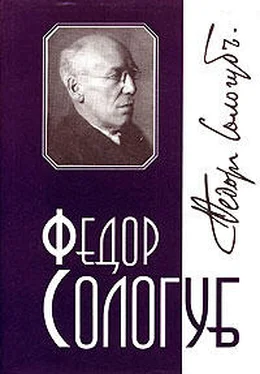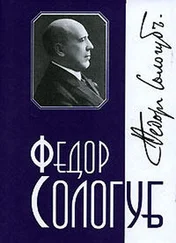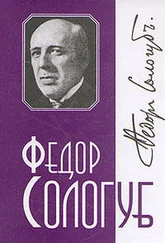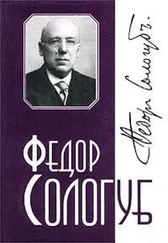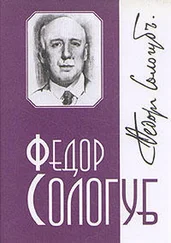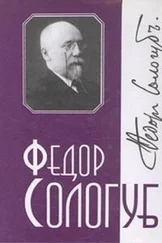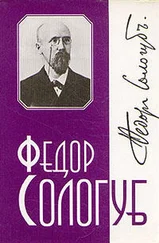Мечтал, что он – царский сын, что гордый чертог его предков стоит в стране прекрасной и далекой. Он заболел тяжким недугом давно, и лежит в своей тихой опочивальне, под золотым своим балдахином, на мягкой пуховой постели, покрытый легким атласным покрывалом, и бредит, воображая себя кухаркиным сыном Гришкою. Открыты настежь окна его опочивальни, доносится иногда к больному сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья, и плеск жемчужного фонтана. А у изголовья постели сидит его мать, царица, и плачет, и ласкает своего сына. Глаза у царицы ласковы и печальны, и руки ее нежны, потому что она не стряпает, не шьет и не стирает. Если и делает что милая мама-царица, так только вышивает цветным шелком по золотой канве атласную подушку, и из-под ее нежных пальцев выходят алые розы, и белые лилии, и павлины с длинными глазастыми хвостами. И плачет мама-царица о том, что милый сын ее тяжко болен, что он, открывая порою мутные от болезни глаза, говорит непонятное что-то странными словами.
Но настанет день, и очнется сын царицы, и встанет со своего роскошного ложа, вспомнит, кто он и как его зовут в родной стране, и засмеется.
IV
Радостно стало Гришке, когда он домечтал до этого. Он побежал еще быстрее. Ничего не замечал вокруг себя. Вдруг неожиданный толчок заставил его опомниться. Он испугался прежде, чем успел понять, что с ним случилось.
Мешок с покупками из рук его выпал, тонкая бумага разорвалась, и желтые лимонные сухарики рассыпались по избитым, засоренным серым плитам тротуара.
– Скверный мальчишка, как ты смеешь толкаться! – визгливо кричала на Гришку высокая, полная дама, на которую он набежал.
От нее пахло противными духами, к ее сердитым маленьким глазам был приставлен противный черепаховый лорнет. Все лицо ее было противное, грубое, сердитое и наводило на Гришку страх и тоску. Гришка испуганно смотрел на барыню и не знал, что делать. Ему казалось, что уже дворники и городовые, страшные фантастические существа, идут со всех сторон и вот-вот схватят его и потащат куда-то.
Шедший рядом с барынею молодой человек, слишком щегольски одетый, в цилиндре, в перчатках противного желтого цвета, смотрел на Гришку разъяренными, вытаращенными красными глазами, – и весь он был красный и злой.
– Хулиганишка негодный! – процедил он сквозь зубы.
Небрежным движением сбил с Гришки шапку, больно подергал его за ухо, отвернулся и сказал барыне:
– Пойдемте, мамаша. С этою дрянью не стоит связываться.
– Но какой дерзкий мальчишка! – шипела барыня, отворачиваясь. – Грязный оборвыш, туда же толкается! Это прямо возмутительно! По улицам спокойно идти нельзя! Чего полиция смотрит!
Барыня и молодой человек, сердито переговариваясь, пошли прочь. Гришка поднял свою шапку, подобрал и запихал кое-как в лохмотья бумажного мешка рассыпавшиеся лимонно-желтые сухарики и побежал домой. Ему было стыдно и плакать хотелось, но он не заплакал. Уже не мечтал о Турандине и думал: «Она такая же злая, как и все здешние люди. Она навела на меня страшный сон, и никогда мне не проснуться от этого сна, и не вспомнить мне во веки моего настоящего имени. И не узнаю никогда взаправду, кто же я».
Кто же я, посланный в мир неведомою волею для неведомой цели? Если я – раб, то откуда же у меня сила судить и осуждать, и откуда мои надменные замыслы? Если же я – более чем раб, то отчего мир вкруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?
Смеется над бедным Гришкою, и над его мечтами, и над его тщетными вопросами жестокая, но все же прекрасная Турандина.
I
Людмила Григорьевна Полынцева вдруг почувствовала, что она влюблена.
Это случилось после нескольких лет жизни рассеянной и равнодушной, когда уже Людмила Григорьевна забыла своего первого мужа, когда уже она устроилась с двумя своими детьми, мальчиком и девочкою, так удобно и приятно, что они были с нею, если она хотела быть с ними, но нисколько ей не мешали.
Чувство неожиданной влюбленности было ей странно, не совсем даже приятно, – потому что и радость может иногда не радовать подобных ей людей, людей приблизительного понимания жизни, приблизительного образа мыслей и даже приблизительной наружности и приблизительного возраста.
Есть порода людей, очень распространенная, и даже, быть может, господствующая в нашей жизни, дающая ей общий неопределенный тон, – ни слишком темный, ни слишком светлый, ни горячий, ни холодный. Мир наш, лежащий во зле, не хочет яркой окраски, резких характеров, определенных личностей; он хочет быть тусклым, серым, не обращающим на себя внимания, не кидающимся в глаза, одним словом, приличным. Делать то же и так же, что делают и как делают все порядочные люди; быть похожим на всех людей своего круга; забывать все то, что уже не надобно, и брать все то, что берут, как приличную новость, другие, – вот вся несложная мудрость этой толпы, этого облака людской пыли.
Читать дальше