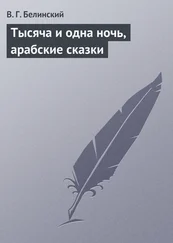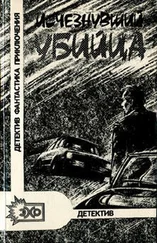Алла вытащила из пачки сигарету, закурила.
- Между "мальборо", купленным в Бруклине, и "мальборо", купленным в Кокшайске, огромная разница, - сказала она. - Небо и земля. Кокшайская вроде набита каким-то...
Я схватил Аллу за плечи, вытащил из кресла, как следует встряхнул.
- Со мной разговаривать стоя, мне смотреть в глаза, мне улыбаться, со мной быть вежливой, почтительной, фамильярности не допускать, деньгами не попрекать, закуривая, предлагать мне... - я и не знал, что сказать ещё, какие ещё ввести правила. - Купить новый сейф, подготовить финансовый отчет и привезти на вокзал, Тиму менять подгузники регулярно, здесь воняет! Понятно, крыса? Понятно? Ну?!
Во мне, оказывается, ещё оставалось много сил. Я держал Аллу почти на вытянутых руках, она хлопала ресницами, смешно раздувала щеки, пыталась сохранить равновесие, ее левая рука, словно в судороге, била по столешнице, под ее пальцы попала сигаретная пачка, она вцепилась в неё, поднесла к моему лицу.
- Курите, Па, пожалуйста, курите! - голос её дрожал. - Это пачка из Бруклина, но у меня есть еще, в бауле, полблока. Хотите дам вам с собой? Если вам нужна помощь, нужны люди, вы скажите, мы пришлем сразу после собрания, собрание внизу, его проводит Катерина, она сказала, что вас хорошо знает, она пришлет людей, но после, после собрания, Катя принимает пост наместника в России, вы должны будете её утвердить...
Я отшвырнул Аллу, оттопыренной задницей она сбила кресло, но удержалась на ногах, забилась в угол, между телевизором "Рубин" и сейфом, схватила со столика старый, когда-то белый, бездисковый телефонный аппарат, вырывая из стены жесткий, ломкий, такой же старый провод, аппаратом загородилась. В ее глазах был настоящий, подлинный ужас, кончик ее носа побелел, подбородок дрожал.
- Я спросил - тебе понятно? - я застрял между ворчащим Тимом и своим креслом, попытался переступить через него, кресло опрокинулось, нога попала между подлокотником и сиденьем, я чуть не упал.
- Да, понятно, Па, понятно, только не пугайте меня так, не надо, я сделаю всё как вы говорите, все будет по-вашему, только не бейте меня и не пугайте, пожалуйста!
- Да-да, хорошо, - мне с трудом удалось высвободить ногу, проклятое кресло, продавленное, с грязной, сигаретами прожженной обивкой. - Давай сюда сигареты.
Она нагнулась, подняла пачку с пола, протянула мне, попыталась поймать мою руку и поцеловать. Я оттолкнул её, и Алла заплакала некрасиво, кривя губы, хлюпая, а я развернулся и вышел.
Все вокруг дышало смертью, жить приходилось через силу, никакого упоения, никакого наслаждения, не борьба, а сопротивление. Тяжелое выживание. Я должен был что-то делать, но долженствование меня удручало, будущее делание было заранее тягостно. Мне обязательно надо было узнать, в чем заключалась суть учения моего сына, к чему он призывал, чему учил, как и кого, но я, боясь узнать что-то, что могло не понравиться, что могло расстроить, не вписаться в мои отсутствующие, впрочем, выбитые и выломанные представления, ослабить собственное сопротивление, и не знал, к кому обратиться, с кем поговорить.
Я был слишком одинок и слишком быстро умирал. Во мне один за другим выключались блоки, системы или они начинали работать и служить мне совсем не так, как прежде, не так, как было обговорено, решено заранее. Мои желания, обширные прежде, плотные, широкие, распиравшие, нарастающие, теперь скукоживались, опадали сморщенными перезрелыми плодами, покрывались плесенью, распадались. Моя сила, гибкость мышц, крепость суставов, восстановленные и развитые вновь, теперь превращались в свою противоположность, мышцы деревенели, суставы грозили разойтись от напряжения. Хотелось просто стоять в темноте вонючего коридора и кричать, кричать что-то бессвязное.
Приобретя и потеряв сына, становясь распорядителем его наследства, сам я переставал жить. Тоскливость окружающего была противопоказана и противоположна жизни, но само оно не было смертью, а лишь ее представляло, и умирание было разлито в воздухе, затхлом, пропыленном и зловонном в бывшем спецстройуправлении, затяжка бруклинской сигаретой кружила голову, а мое худое напряженное тело все равно требовало еды, пития, от табачного дыма во рту скапливалась вязкая тяжелая слюна, я плюнул в темноту коридора, спустился по лестнице, прошел мимо спящего на стуле человека в балахоне, открыл дверь, встал на крыльце, вздохнул полной грудью.
Да, воздух был свеж, пронзителен, колюч - все-таки север, север.
Читать дальше