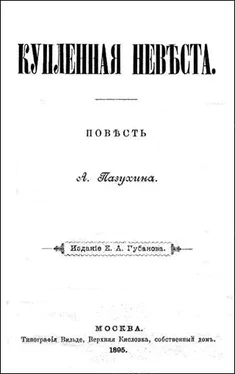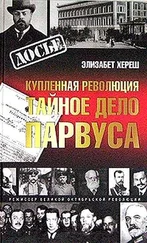— Вотъ онъ гдѣ у меня. Хочу, такъ поверну, хочу, такъ, хочу, назадъ попячу. У Шушерина въ головѣ кое-что есть, Шушеринъ на три аршина въ землю видитъ, такъ не съ нимъ барину воевать. Онъ и покричитъ, онъ и ногами потопаетъ, онъ и нагайку со стѣны сниметъ, а сдѣлается-то по моему!
— Вѣрю, батюшка, вѣрю, — заговорила Лукерья Герасимовна, — наслышаны про то, что господинъ вашъ превелико васъ уважаетъ, такъ вотъ вы и уговорили бы его Надюшку то отпустить безъ обмана. И грѣха не было бы, и не столь опасливо.
— Не въ силахъ моихъ сіе, матушка.
— Почему, благодѣтель?
— А потому, что, увидамши Надюшу, баринъ воззрится на нее и воспылаетъ превеликой любовью, а ужъ ежели человѣкъ въ любовный жаръ вдарится, такъ съ нимъ никто сладить не можетъ, ибо сіе блажь и великое уму помраченіе. Нельзя ему Надежду показать, никоимъ образомъ нельзя.
— О томъ и моя нижайшая просьба Ефиму Михайловичу, матушка, — проговорилъ Латухинъ. — Ужь ежели лицо Нади столь привлекательно, что на нее среди улицы заглядывались и въ нѣкоторое изумленіе отъ красоты ея приходили, такъ столь падкій на красоту господинъ, какимъ есть ихній баринъ, отъ себя ее не отпуститъ, и тогда мое дѣло…
Молодой купецъ не договорилъ и поникъ головой.
— Надо будетъ сдѣлать такъ, какъ Ефимъ Михайловичъ приказываютъ, — докончилъ онъ, спустя немного. — Полагаю, что Марьюшка согласится на такую машкараду изъ-за любви ко мнѣ и къ Надюшѣ, которую она пуще сестры своей любитъ.
— А если баринъ то прельстится Марьюшкой? — спросила Лукерья Герасимовна.
— Опять вы, голубушка, за это? — досадливо произнесъ Шушеринъ и зарядилъ носъ усиленною понюшкой табаку. — Сказываю вамъ, что вниманія даже не обратитъ. У насъ такихъ, какъ Маша то, хоть прудъ пруди. У ткача Ермила дочка Глаша красавица, у птишницы двѣ красотки писаныя, Сонька старшаго егеря — прямо таки краля писаная, Вѣрунька, Фелицата, Груша швея… Да мало ли ихъ! Такой, какъ Надя, нѣтъ, а средственныхъ-то, смазливенькихъ-то — хоть отбавляй! Ему обыкновенное-то все надоѣло, онъ подъ облака взвивается.
— Такъ, батюшка, такъ, — сказала старуха. — Нукъ что-жъ, поговорю я ужо съ Машей.
— Да, поговорите. Черезъ пять-шесть дней я долженъ барскій приказъ исполнить, и Надежду ему предоставить, а то вѣдь онъ и самъ махнетъ въ Чистополье, ему дорога туда не заказана, а Москва-то понадоѣла ужь. Вы съ Машей поговорите, а я завтра за Надюшей подводу пошлю.
При послѣднихъ словахъ мать съ сыномъ переглянулись.
— Что-жь, Ванюша, надо доложить Ефимъ Михайловичу правду, — сказала старуха.
— Говорите, матушка, а я… я не смѣю, боюсь. Я выйду матушка.
— То-то «выйду!» Баловница я, потакаю тебѣ, а ты и тово…
Старушка проводила глазами уходившаго сына и обратилась къ Шушерину:
— Здѣсь вѣдь Надюша то, Ефимъ Михайловичъ…
— Какъ здѣсь?
— Такъ. Ужь вы простите ее и на насъ, не гнѣвайтесь. Тоскуетъ, вижу, мой Ваня, самъ не свой ходитъ, отъ хлѣба отбился. Я то къ нему съ распросами, — не вытѣрпело материнское-то сердце, — а онъ и говоритъ: «Не могу, говорить, я, матушка, жить безъ Надюши, извела меня кручина, особливо потому, что не вижу ее. Может, говоритъ ее тиранять тамъ всячески безъ барскаго призора холопки разныя. Привыкла де она у старой барыни своей къ жизни хорошей, какъ барышня жила, а теперь де въ деревнѣ живетъ, всякую страду терпитъ». Ну, и тоскуетъ, вижу, мой Ваня, съ тѣла спалъ, задумывается, а потомъ вдругъ пропалъ неизвѣстно куда, прикащику дѣло сдалъ: «Я, говоритъ, въ отъѣздъ долженъ отлучиться». Отлучился да черезъ пять денъ съ Надюшей и пріѣхалъ…
— Сбѣжала, стало быть, она изъ вотчины-то? — спросилъ Шушеринъ, съ очень значительнымъ и важнымъ видомъ нюхая табакъ. — Неодобрительно, сударыня. За это вѣдь ихнюю сестру жестоко и основательно наказываютъ…
— Нѣтъ, батюшка, нѣтъ, не сбѣжала! — поспѣшно перебила Лукерья Герасимовна. — На это Ванюша не рѣшился бы. Ее бурмистръ отпустилъ, яко бы погостить къ роднѣ. Ванюша бурмистру то подарокъ отвезъ и деньгами тоже ублаготворилъ.
— Такъ-съ.
Шушеринъ наморщилъ брови.
— За сіе съ бурмистра будетъ взыскано, недосчитаться ему очень многихъ волосъ въ рыжей бородѣ его!
Старушка встала и поклонилась Шушерину низко, низко, коснувшись рукою до полу.
— Ужь простите вы его, Ефимъ Михайловичъ, за нашу вину, а я васъ всячески ублаготворю. Не стерпѣлъ, вишь, Ваня-то, ну, и поѣхалъ и умаслилъ бурмистра.
Обѣщаніе «ублаготворить» моментально смягчило Шушерина. Онъ ласково взглянулъ на старуху и погрозилъ ей пальцемъ.
Читать дальше