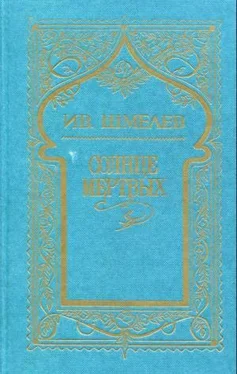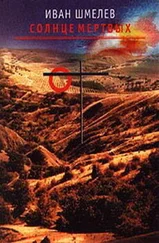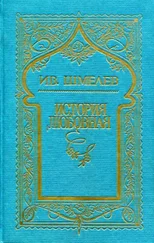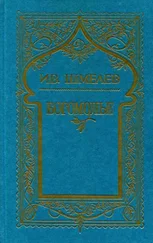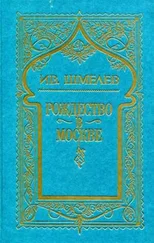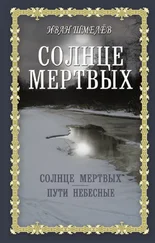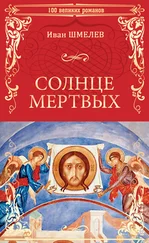Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами.
В доме я не видал книг, кроме Евангелия, которое нас, детей, заставляли читать постом, и молитвенников, по которым я изучал молитвы, не понимая смысла церковных слов. В многочисленных поминаньях были картинки, где изображалось шествие душ по мытарствам, черти в огне, грешники, старающиеся вырваться из пламени. Это оставило впечатление страха и жуткой Тайны.
Единственная книга не духовного содержания, которую я видел в доме до моей школьной жизни, кроме азбуки, был атлас по естественной истории с раскрашенными картинками. Это была одна из дядиных книг. Этот дядя помер до моего появления на свет. Он очень любил чтение и театр. Хоть и занимался подрядным делом при жизни моего деда, но как-то спрохвала, и был очень слабого здоровья – «прочитал все свое здоровье на книгах». Говорят, и за дедом водилась страсть к романам из французской жизни, и про историю любил почитать, но книг после него не осталось: сволокли куда-то в амбар, а там поели мыши. Только и уцелел атлас животного царства.
Должно быть, я был очень впечатлителен. Я горько плакал всякий раз, как прогоняли со службы кого-нибудь из тех, с кем я был так или иначе связан. Когда их прогоняли, я представлял себе, что им уже некуда больше пойти, что они будут теперь сидеть со своими сундучками где-нибудь за воротами. Бывало, забьешься в уголок и плачешь тихо-тихо. Это осталось и до сего дня. И теперь, когда видишь, что кому-то дают расчет, засосет под сердцем и на душе тоска. И до сего дня думаешь – куда пойдут и найдут ли место? А в то далекое время мягкого детства смотришь бывало, как неторопливо собирают прогоняемые свой маленький скарб, и себя чувствуешь в чем-то виноватым.
В первые годы обучения грамоте сильное впечатление производили на меня басни. Читаешь про лисицу и виноград, и ясно-ясно видишь, как эта лисица смотрит, выкатив красный язык, и изо рта у ней текут слюни, и горят глаза. И представляешь яркий, солнечный день. То, что было заключено в буквах, оживало, имело запах, живую форму.
Одиннадцати лет я поступил в гимназию. Здесь меня точно прихлопнуло. Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжелая пора моей жизни – первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха.
С поступлением в гимназию мне стала доступной книга. Жюль Верн, Майн Рид, потом Марриэт и Эмар были любимыми писателями. Они открыли передо мной прекрасный мир недосягаемого. Океан и тропические леса. Льды и пустынные берега, просторы и тишина. Отважные честные люди. Благородные храбрецы, герои-индейцы и старые охотники. Там не было холодных мертвых стен, злых глаз, фраков с золотыми пуговицами, пропитанных табаком. Я мечтал быть там с моими любимцами из плотников, ломовиков, сапожников. Там нам было бы славно.
Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы из «Записок охотника» соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову – чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его «Казаки» и «Война и мир» меня закрутили и потрясли. И помню, закончив «Войну и мир», – это было в шестом классе, я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель – это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом писатель я благоговел. И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани Пушкин и Толстой.
Рассказ «Городовой Семен», написанный под впечатлением от рассказа Успенского «Будка», – было сентиментальнейшее произведение, насколько я его помню. Городовой одинок. Он живет в своей будке, в холоде и нужде. С ним дружит фонарщик, тоже обездоленный и калека. Его прогнали с завода, где ему обожгло чугуном ногу. Теперь он влачит жалкое существование. Городовой и он часто ведут беседы о жестокой жизни. Городовой тяготится своей службой, на которую его загнала судьба. Они сговариваются с фонарщиком бросить город и поселиться в деревне. Но злая судьба мешает. Городовой простудился, спасая осенью утопающего на реке, и умирает одинокий в своей будке под вой ветра. Фонарщик ковыляет за дощатым гробом. Возвращается вечерком к тележке с лампами и начинает зажигать огни. Первый фонарь – у знакомой будки. Грустно смотрит он на пустую будку, на фонарь и не зажигает. К чему? Ему теперь не надо света… Перед ним теперь не этот вонючий скупой свет, а вечный… Фонарщик смотрит с перекрестка. В соседнем участке зажигаются огоньки. Ему приходит мысль дерзкая – осветить улицу так, как никогда не освещал из экономии на масле. Нет, пусть в память друга, в память показавшегося ему теперь вечного света, этой ночью вся улица будет гореть ярко-ярко. Пусть… Он зажигает в полный свет, пускает широкие языки пламени. Дальше и дальше, похрамывая, идет со своей лесенкой, и больше и больше свету на улице. Не видно фонарщика. Огни растут, начинают лизать стекла. Улица принимает красноватое освещение. Тишина. Слышно, как начинают лопаться стекла. Коптят огни… Зловеще коптят вонючие огни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу