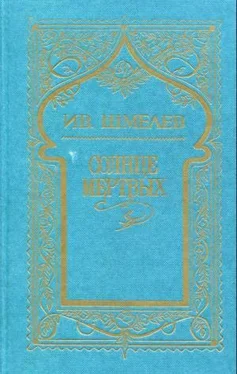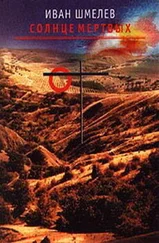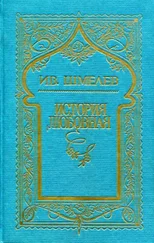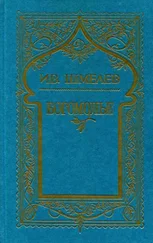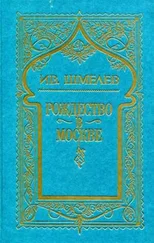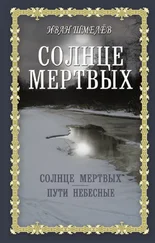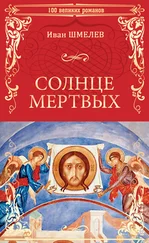Все теми же призывами к миру, гармонии, красоте, здравому смыслу, чувству хозяина полны произведения Шмелева, написанные в Крыму. Это прежде всего повесть «Неупиваемая Чаша»
(1918), выпущенная впервые в крымском сборнике «Отчизна» вместе с произведениями других писателей, оказавшихся на Юге России, а там в это время блистало целое созвездие: И. А. Бунин, В. Г. Короленко, А. Н. Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренев… Об условиях работы над «Чашей» Шмелев впоследствии вспоминал: «Писалась „Чаша“ – написалась – случайно. Без огня, – фитили из тряпок на постном масле, – в комнате было холодно +5, -6. Руки немели. Ни одной книги под рукой, только Евангелие. Как-то, неожиданно написалось. Тяжелое было время. Должно быть НАДО было как-то покрыть эту тяжесть. Бог помог» [11] Шмелев И. С. Письмо Р. Г. Зоммеринг от 19 декабря 1933 г. – Цит. по.: Келер Л. И. С. Шмелев о себе и о других//Русская литература в эмиграции: Сборник/Под. ред. Н. Полторацкого. – Питтсбург, 1972. С.
. Не в лучших условиях создавались в октябре 1919-го и 6 сказок – потом Шмелев публиковал их по крымским газетам (только «Сладкий мужик» впервые-напечатан в отдельном берлинском издании 1921 года).
Но, переживая в Крыму смену шести правительств, провожая сына в Добровольческую армию (по объявленной А. И. Деникиным мобилизации), мучаясь тревогой за судьбу, а потом и за здоровье Сергея, вернувшегося из Туркестана с туберкулезом, бедствуя и холодая, Шмелевы не предполагали, что самое страшное их ждет еще впереди. Действительность превзошла самые мрачные предчувствия.
Шмелевы отказались эвакуироваться вместе с войсками Врангеля. Иван Сергеевич, юрист по образованию, поверил не в возможность беззакония, но в обещания амнистии всем оставшимся в Крыму. Сергей Шмелев был арестован в первый же месяц установления Советской власти и расстрелян в конце января 1921-го; однако родители его узнали страшную правду много позже, терзаясь неизвестностью, страхом, горем и справедливо подозревая самое худшее.
Шмелевы пробыли в Крыму до весны 1922 года, пережив и красный террор, и чудовищный голод. Сохранились записки Ивана Сергеевича «Материалы жизни» (1922), в которых обозначены многие ситуации из будущей эпопеи «Солнце мертвых», первой эмигрантской книги писателя (впервые – парижский альманах «Окно», 1923–1924 гг.). В ней он рассказал о событиях в Крыму, ни словом не обмолвившись о личной трагедии.
Как мы уже отмечали, и в «Солнце мертвых» Шмелев выступает прежде всего как «художник обездоленных», рассказывает о страданиях самых беззащитных: стариков, детей, женщин, что остались в медленно затягивающейся петле голода. Рассказывает о расстрелянных по подвалам, о схваченных безвинно и пропавших без вести – создает своего рода «летопись красного террора» в маленьком крымском городке. В нем без труда угадывается Алушта, узнаются ее действительные обитатели: в частности, известен профессор Иван Михайлович Белоусов (1850–1921), автор «Словаря ломоносовского языка», удостоенный академической премии 1914 года; Николай Сергеевич Кашин, сын известного винодела, расстрелянный [12] Попова Л. Лики истории // Алуштинский вестник. 1995. Нояб. № 47. С. 3.
; почтальон Прокофий Павлович Дрозд (1883–1963) [13] Путинин Ф. В. Алуштинские прототипы героев произведений И. С. Шмелева и С. Н. Сергеева-Ценского // Гражданская война и отечественная культура. IV Крымские Шмелеве кие чтения. Материалы. – Симферополь: Крымский архив, 1995. С. 58–60.
и другие. Книга Шмелева встает на одну полку «белой библиотеки» рядом с такими документальными свидетельствами о революции, как «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Купол св. Исаакия Далматского» А. И. Куприна, «Петербургские дневники» 3. Н. Гиппиус.
Проявляется в «Солнце мертвых» и былая надрывность, стиль «бреда», заставляющий вспомнить рассказы «Лик скрытый», «Это было» (1919–1922, аллегория, где под видом бунта безумцев из сумасшедшего дома изображается борьба красных и белых). Однако они приобретают здесь иное качество. Шмелев писал критику Ю. И. Айхенвальду: «Именно, в моей работе, первое и существенное – не политика, не „крик личный“, а „постижения совсем другого порядка“! Меня охватил страх… как будто я на самом деле присутствую (и доселе) при „стихийном распаде“, разрушительные силы которого – будто уже повсюду. И когда я (теперь) гляжу на каменные террасы Прованса, засаженные оливками, по приказу чуть ли не Юлия Цезаря, – их теперь не сажают, не садят, верней, они дают урожай только к 130 годам! – когда я смотрю на удивительно покойный уклад жизни людей здешних, хожу по гладким дорогам, слушаю шум ключей и водоводов, вижу вековые культуры, и встречаю „тревожное и огневое“ на некоторых, больше молодых, лицах, провожающих пытливыми глазами несущиеся автомобили, я чувствую тревогу… Бродильный грибок повсюду… и все – трепет и нетерпение. В самой природе как будто идет броженье, и веками прилежавшиеся камни вот-вот запляшут! М. б. сдвиги – в самой материи. Нужны ей. Как будто всегда, – для меня теперь это особенно ощутительно, – идет страшная борьба творящего и разрушающего начала, и, отодвинутое усилиями культур давнее, изначальный хаос „демона земли“, тоскует в порабощении…» [14] Шмелев И. С. Письмо Ю. И. Айхенвальду от 13 июля 1923 г. – РГАЛИ, ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 174.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу