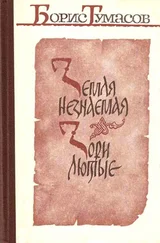Подали белое вино, знаменитое Фраскати. Ольга Александровна пила, ела жареных осьминогов, хохотала – ей было весело, как давно не бывало.
Piccolo Uomo притащил свои ружья – довольно убогие двустволки, одно даже шомпольное; другое – Лефоше, старинное, со смешными боковыми ударниками. Алеша особенно одобрил шомпольное и спросил, не участвовало ли оно в войнах Гарибальди. Piccolo Uomo весело ржал.
Потом явился устричник – старик с подкаченными у колен штанами, волосатыми ногами, в берете. Он имел вид моряка.
Купили устриц, подпоили и его, и хозяина, угостили Альфредо. Старик развеселился и сообщил, что бывал в России – Odessa, Taganrog. Рассказал, что прежде торговать было легче, – он носил устрицы по виллам, и господа давали по четыре, по пяти лир. За здоровье русских он выпил еще вина.
Когда пообедали, в головах шумело порядочно. Было необыкновенно весело, хотелось куда-то бежать, кричать, сделать что-нибудь глупое и милое – состояние, которое в Италии бывает нередко.
Взявшись за руки, они духом взбежали в гору над Фраскати, в лес, дошли до какого-то монастыря. Там сидели на ограде, смеялись, глядели, как синела внизу безглагольная равнина, напоминавшая своим покоем море.
Налево, на закате, виднелась полоска моря – у Остии. В Кампанье одиноко торчала башня. Направо, к Риму тянулся акведук; белели вершины Сабинских гор. В лицо веял ветер, как плеск воздушного океана.
– Ну, и отлично, – сказал Алеша, – Превосходно!
И, сняв шляпу, он помахал ею, как бы посылая привет далекому, и дорогому.
Потом поправил волосы, растрепавшиеся от бега, голубые его глаза стали серьезней, и небольшим, но приятным тенором он запел:
О, che dolce e giovinezza,
Che si fugge, tuttavia,
Chi vuol esser lieto: sial
Di doman non e certezza! [69]
Как нередко бывает, за буйным весельем на Ольгу Александровну нашло мягкое, меланхолическое настроение. Ей не хотелось оставлять Алешу одного во Фраскати (он должен был ночевать у Piccolo Uomo) – стали приходить печальные, и разымчивые мысли. Притих несколько и он. Наступал вечер, кончался этот радостный дены надо было спускаться вниз.
В девятом часу он усадил Ольгу Александровну в трам, шедший в Рим.
– Я тебя завтра буду ждать, – сказала она ему на прощанье, слегка покраснев. – Как буду тебя ждать! Не опаздывай.
Она махнула ему из окна платочком. Трам отходил, Алеша с непокрытой головой медленно зашагал в гору.
Ольга же Александровна ехала по Кампанье в красных сумерках, и вид акведуков, овец, сбившихся стадами, далеких, мертвых гор погружал ее в ту певучую меланхолию, которая свойственна Риму. Ей казалось, что все проходит, и уже прошло, как века, пронесшиеся над этой страной. Угрюмые развалины у города представились могильными стражами – жизни Рима, и ее собственной, маленькой жизни, проходящей свой зенит, и ее любви к Алеше – быть может, тоже перегибавшейся к закату.
От вокзала она шла пешком. Рим был тих и пустынен. На via Veneto шуршали листьями платаны. Стены Вели-зария были безмолвны.
Вкладывая ключ в дверь пансиона, она на минуту приостановилась: слышались шаги запоздалого прохожего, да слабо, с нежной музыкой грусти, журчала вода одного из бесчисленных фонтанчиков Рима.
XLV
Хотя следующий день выдался удивительный – Рим был залит солнцем, синева неба чисто римская, Испанская лестница в цветах, особенно черен кипарис на подъеме via Pinciana, и ослепительно сияют в лазури колокольни Trinita, – Ольга Александровна встала невеселая. Ей не нравилось отсутствие Алеши. Что-то теснило ей сердце.
Ее не развлек и завтрак в столовой, выходившей на via Veneto, в густую зелень платанов.
Как всегда в пансионах, за табльдотом подтягиваются. Идет тот безличный, пустой разговор, который никого не утомляет.
Так было и сегодня. Все же Ольга Александровна была рассеянней, мало ела – даже не отдала должного удивительному сладкому – тертым каштанам в сливках, specialite de la maison [70], как говорила знакомая немка.
– Mais ma chere madame, – сказала она Ольге Александровне, – vous mangez comme un oiseau [71].
Ольга Александровна наскоро откланялась трем чикагским студенткам и голландскому барону – любезному человеку с лысиной, который говорил про себя, что он grand mangeur [72],– и ушла.
В столовой хохотал еще барон, рассказывая что-то веселое немке из Кельна, а Ольга Александровна вышла на балкончик, куда подали ей чай, и, глядя, как у ворот виллы Боргезе играют в орлянку извозчики, думала, что пора бы уж Алеше возвращаться.
Но прошел час, а его не было. Ольге Александровне наскучило сидеть, она вышла. Взяла в узкую уличку, вдоль стены виллы Боргезе. Минут через двадцать вышла на viale Parioli, новый бульвар, проложенный на окраине Рима. Здесь опять росли платаны, продувал ветерок, и виднелась Кампанья, далекое Тиволи, Монте Соракто. Ольге Александровне нравилось идти так, по малоизвестной дороге, в чужой стране, среди чужих людей. Она понимала, всем существом ощущала, что находится на странной, таинственной земле. Голая Кампанья, водопады и сивиллы Тиволи, серные воды, остатки священных рощ, загадочные тростники под Римом, почва, вся как бы пронизанная катакомбами, дряхлая, удобренная прахом тысяч людей, – все казалось легендарным. Даже зелень огородов внушала жуткое чувство: слишком уж она ярка – не на человеческой ли крови взошла она?
Читать дальше