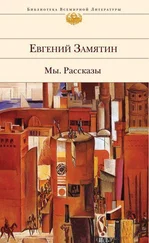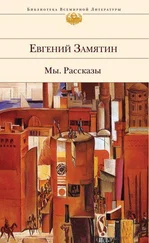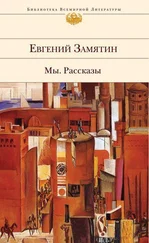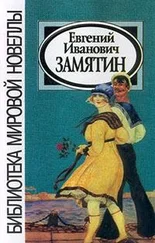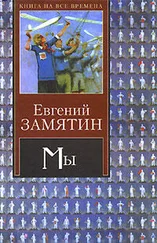После выхода первой замятинской книги повестей и рассказов, куда вошло и «Уездное» (Пг., 1916), критики вновь обратили внимание именно на заглавную повесть. «Творчество Замятина, – утверждал обозреватель „Нового журнала для всех“, – это нечто серьезное, большое, глубокое. Жуткой правдой, художественным проникновением веет от всех его рассказов. Лучшая его вещь, именем которой и названа книга, – это повесть „Уездное“…» (Новый журнал для всех. Пг., 1916. № 4–6. С. 59).
«Имя молодого беллетриста Замятина стало появляться в печати сравнительно недавно. Но его первую книгу берешь в руки с уважением и доверием… – писал критик И. М. Василевский (He-Буква). – Это писатель. У него не только большая сила изобразительности. У него есть еще какая-то серьезность, почти суровость, которая неизбежна во всяком серьезном деле… Именно такие, энергичные, живые таланты необходимо нужны нашей любимой и нелепой, такой уездной России» (Журнал журналов. Пг., 1916. № 7. С. 6–7).
Так испрохвала… – Испрохвала (тамбовск.) – не торопясь, исподволь.
На Куличках *
Впервые: Заветы. 1914. № 3. С. 35–109.
Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.
Повесть была написана Замятиным в Николаеве, где он занимался строительством землечерпалок. Бытописание о дальневосточном гарнизоне (где Замятин никогда не бывал), гро-тесково-фантасмагоричное, многими было воспринято как описание реальности. Сам автор вспоминал, что к нему обращались люди, которые узнавали в героях своих знакомых.
Цензура расценила это произведение как клевету на русскую армию, номер журнала был конфискован, редакция и автор привлечены к суду.
Замятин был удивлен тем обстоятельством, что большинство критиков восприняло повесть прямолинейно, и он сделал вывод, «что строить даже незнакомый по собственному опыту быт и живых людей в нем – оказывается можно».
В 1928 г. переведена на хорватский язык.
…случилось в августе на концерт Гофмана попасть. – Имеется в виду знаменитый польский пианист Иосиф (Юзеф) Казимир Гофман (1876–1957). С 1898 г. он жил в США; в 1895–1913 гг. часто концертировал в России.
…и пустила против Тихменя свои атуры. – Атуры (от фр. atout – козырь в карточной игре) – козыри.
Вот начупит этакий прохвост… – Начупить (обл.) – напроказить.
…играет в кулючки с чумазыми. – Кулючки (или гулючки. стар.) – игра в жмурки, в прятки.
…на лывах… хрупал ледок. – Лывы (стар.) – лужи.
Как лунатики, как каталептики. – Каталептики – люди, подверженные каталепсии, обморокам, сопровождающимся онемением, неподвижностью всего тела.
Маруся смотрела на кенкет… – Кенкет – общее название для ламп, в которых горелка находится ниже резервуара, содержащего масло или керосин.
Непутевый *
Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С. 8–16. Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.
Три дня *
Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С. 8–14. Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.
Рассказ написан на основании собственных впечатлений автора, который возвращался в Россию из плавания в Египет во время восстания на броненосце «Потемкин».
Студенческий сынок *
Впервые: Замятин Е. Сочинения. Т. 4. 1988. С. 46. Печатается по данному изданию.
Алатырь *
Впервые: Русская мысль. 1915. № 9. С. 9–38.. Печатается по: Собрание сочинений. Т. 1. М.: Федерация, 1929.
А. К. Воронский отмечал, что в этой повести наиболее отчетливо проступают особенности художественной манеры Замятина: «словопоклонничество, мастерство, наблюдательность со стороны, ухмылочка и усмешка, анекдотичность… заостренность, резкость и ударность приема, подбор тщательный слов и фраз, большая сила изобразительности, неожиданность сравнений, выделение одной-двух черт, скупость» (Воронский А. Е. Замятин // Искусство видеть мир. М., 1987. С. 117).
На одном на великом языке эсперанте… – Эсперанто – искусственный язык, созданный на основе латинских корней европейских языков и латинской графики с упрощенной грамматикой и ограниченным лексическим запасом. Создателем его был варшавский врач Людвиг Заменгоф (1859–1917), который предполагал, что новый язык послужит сближению разных народов. Название язык получил по псевдониму Заменгофа (надеющийся). С конца XIX в. и до второй половины XX в. эсперанто широко пропагандировался во многих странах, в том числе и в России; на нем издавались книги и журналы; однако массовым языком международного общения он так и не стал.
Читать дальше