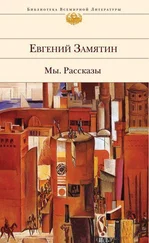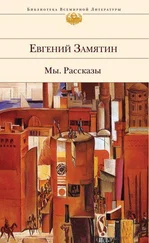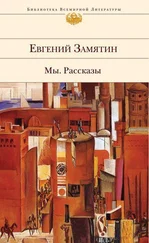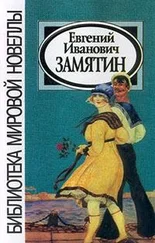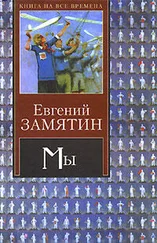Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек – сам Войчек! – поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:
– А все-таки… все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?
Но ответ всегда был один и тот же:
– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.
Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины – и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково-розовым.
– Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.
Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:
– А мама? Кто моя мама?
Каноник – еще шелковей, розовее:
– Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.
Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе – ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест – тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу:
– Теперь, Феликс… Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я – твой отец. Так вот: я – твоя мать, а твой отец – покойный архиепископ Бенедикт.
Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое – как слезы – в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.
1924
Настоящее издание является наиболее полным собранием сочинений Евгения Ивановича Замятина на сегодняшний день. Единственное собрание сочинений, вышедшее при жизни писателя в 1929 году в 4 томах, не включало ни первых произведений, ни романа «Мы», ни, разумеется, написанных им позже, но, кроме того, в него не входили его статьи, рецензии, заметки на литературные темы. В данном издании представлены все художественные произведения, литературно-критические статьи, портреты, воспоминания, записные книжки, избранная переписка.
Первый том содержит художественные произведения, созданные Е. Замятиным до 1922 года. Хронологически за эти рамки выходят лишь «Чудеса», опубликованные с 1917 по 1926 год.
Автобиография *
Впервые в кн.: Замятин Евг. Собр. соч. Т. 1. М.: Федерация, 1929.
Один *
Впервые: Образование. 1908. № 11. С. 17–48. Печатается по этой публикации.
В рассказе отражен авторский опыт тюремного заключения за участие в революционных студенческих выступлениях.
Девушка *
Впервые: Новый журнал для всех. 1910. № 25. С. 55–69. Печатается по этой публикации.
Автор, считая первые два своих рассказа слабыми, не включил их ни в сборники, ни в собрания сочинений. Они были напечатаны лишь в вышедшем в Мюнхене издании: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. Munchen, 1986.
Уездное *
Впервые: Заветы. 1913. № 5. С. 46–99.
Печатается по: 3амятин Евг. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Федерация. 1929.
Критика сразу же заметила это произведение молодого автора. М. Горький, А. Ремизов, Б. Пильняк считали повесть самым значительным произведением писателя.
«Замятин волнует читателя, заражает искренностью своих чувств, правдивостью своих переживаний. В голосе молодого художника прежде всего и громче всего слышится боль за Россию, – отмечал Раф. Григорьев (Р. Г. Крахмальников). – Это основной мотив его творчества, и со всех страниц немногочисленных произведений Замятина ярко и выпукло проступает недугующий лик нашей родины, – больная запутанность русской „непутевой“ души, кошмарная и гибельная беспорядочность нашего бытия и тут же рядом жажда подвига и страстное искательство правды… „Уездное“ – замечательное произведение современной литературы, и по глубине, значительности и художественным достоинствам не может найти себе соперников». (Ежемесячный журнал. Пг., 1984. № 12. С. 83, 84.)
«Повесть захватывает самые больные места современности», – писал И. Н. Игнатов (Русские ведомости. 1913, 7 июня).
Б. М. Эйхенбаум, обращая внимание на стилистику повести, заметил, что «автор не рассказчик, а „сказитель“…» (Русская молва. 1913, 17 июля).
Читать дальше