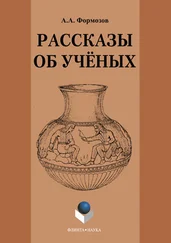Я перед тем, как заснуть, светло подумал, что когда-нибудь стану "дедом", буду ходить расстегнутым, в кожаном ремне и сапогах гармошкой. Буду "дедом" авторитетным и научусь важно говорить "салабонам", которые станут бояться меня, называть за глаза "зверь": "Ты что, опух? Службы не понял, "Душа" дрянная? Бегом в туалет, через пять минут прихожу, гляжу в умывальник и вижу там свое отражение!" И кулаком по грудине. Чтобы синяков не оставалось.
Еще дней триста. И я стану "дедом". Хозяином жизни.
Утром шел на электрофорез. Мрачный был день. То ли спал плохо, то ли зима скупо дает свет. И медленно время идет.
- Очки! Очки, блин...- "Шнурок" из нашей роты Давыдчик аккуратно манил меня пальцем.
Я подошел, чуть не захлебнувшись омерзением и тоской, безысходностью.
- Что мы тут делаем? Забил на службу болт? Сачкуем?
Я смотрел на кончики больничных тапок, опустив руки вдоль тела.
- Что, молчим, милый?
- Не-ет,-язык еле отлип,-у меня пневмония.
- Что у тебя? - скривил морду Давыдчик.
- Воспаление легких. Пневмония.
- Что, умный, что ли, до хрена? Да?
- Нет.
- Как служба? А?
- Как у курицы.
- Почему это "как у курицы"?
- Где поймают, там и...
- Так... День прошел...
- Слава богу, не убили-завтра снова на работу.
- Громче.
- Слава богу...
- Так-то. Выздоравливай скорей. Мы тебя в роте очень ждем. Туалеты мыть некому.
Я почти радостно улыбнулся. Хлебом не корми-дай туалет помыть. Но понравиться не удалось.
- Чего оскалился, чама? Скажи, я чама.
- Я чама.
Завтра работу тебе принесу, будешь мне альбомчик делать.
Ясно?
Да.
Иди. Мало тебя били. Но ничего. Еще исправимся.
И все-таки ко мне приедет папа. Когда я был маленьким, он качал меня на коленях, а теперь он пожилой и иногда плачет, когда ко мне приезжает, но старается, чтобы я этого не видел. Я тоже плачу, а он это видит.
Дома он начальник. У него много подчиненных. Но теперь ему стало трудно работать. Потому что он часто ездит ко мне.
Он привезет мне варенье. Вишневое. Я люблю грызть косточки.
- Здравия желаю.
- Здрасти...
- Мне сюда?
И еще колбасы И пирог яблочный в целлофановом кульке. И денег. Я ему говорю: не привози денег. А он привозит: может, что купишь себе. А их все равно занимают. Но я ему не говорю. Вру, что много себе покупаю.
И котлеты привезет, и печенку. Он всегда много привозит. Я страшно объедаюсь. Он тоже иногда ест со мной. Все-таки с дороги, проголодался. Но мало ест. Будто стесняется.
Папа сказал, что я возмужал.
- Ложись, что сидишь?
Папа, я не возмужал, я постарел.
- Ваш плешивый что не приходит?
А старики-это тоже дети, только дурные, слабые, дурачки..
- Я говорю: что плешивый ваш не приходит? Выписался, что ли?
- Он не плешивый,-сказал я про себя. Потом подумал, приподнялся на локте и повторил:-Он не плешивый,-себе под нос. А пластинки даже не слетели с груди-я чуть-чуть привстал. И видел ее спину.
- Он не плешивый,- громко сказал я.
- Что? - спросила она, что-то записывая.
Я сел. Пластинки слетели на пол. Огляделся: куда бы дать выход звенящей, зудящей дрожи рук и души? Толкнул цветочный горшок. Он качнулся и устоял. Лежак был теплый, хотелось лечь снова.
- Он не плешивый! - крикнул я и толкнул горшок изо всех сил. Рука скользнула, но горшок все же упал, выплеснул язычок земли на линолеум. Белое пятно запестрело и резким бабьим голосом плюнуло:
"Это что? Такое?"
Я встал и пошел, потом побежал: никак не унималась эта чертова черная дрожь. Дернул штору с двери, смёл какие-то склянки со столика и, не увидев себя в зеркале, вылетел в коридор. Изо всех сил побежал...
Потом были руки из огромной волны выросшей дрожи. И чей-то голос перед огромной волной, что вот-вот накроет:
- Какой молодой и такой нервный. Интересно: кем был до армии?
Я выдохнул последнее:
- Человеком...
ЖЕСТОКОЕ СЧАСТЬЕ
Несколько вариаций на одну тему
За свою жизнь я ни разу не подал милостыню нищему. Я вырос, твердо запомнив: в нашей стране с голода никто не умирает. В нашей стране нищих нет. Как и многих других нехороших вещей, о которых пишут в газетах на третьей полосе и в исторических книжках.
И поэтому я грубо с размаха захлопываю дверь перед привычно ноющими "погорельцами" и с внутренним презрением легко прохожу рядом с уложенными на серый асфальт кепками инвалидов и протянутыми кулачками богомольных старушек-их для меня нет.
В избытке веры почти всегда недостаток милосердия.
Люди милосердные склонны сомневаться, и прежде всего-в запрете чужой веры - они строго меня не осудят. Дело не только в вере. Внутренне всегда очень труслива бездумная вера. Большие воздушные шарики боятся крохотных иголок. Ничтожный укол - шарик сдуется весь.
Читать дальше