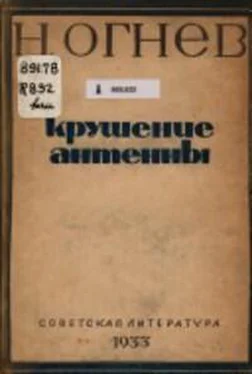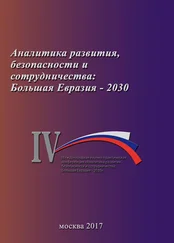— Ну… ты шпарь домой. Завтра придешь, к семи. Ночью твоя музыка не нужна.
4.
С холодного скользкого дивана — чуть не кувырком — одеться и бежать… Куда бежать?
Мысль, заработавшая ясно, споткнулась и стала.
Что? Что было? Что было?
Зашарил руками по столу — наткнулся рукой на холодное, скользкое, маленькое — ггадость, мокрррица, ффу! спички… чиркнул
— прямо в лицо лезла бутыль с желтой жидкостью, вспомнил: самогонка, принес Афанасий, его послал, воротившись, Андрей Алексеич, то есть отец Андрей, поп.
А потом? А потом? А потом?
У-у, как холодно! Вот он, могильный холод! Скорей одеваться — и вон из жилища мокриц и костей, на воздух, на воздух, к чистому небу… и это первый приют родины! Гадость, гадость! Разве можно… осквернять могилы?.. Вспомнил: в России все можно. Разве нельзя устроить так, чтоб не все было можно, чтоб какое-то было нельзя?
Ф-фу, гадость, гадость! И ничего в темноте не найдешь: ни фуражки, ни чемодана… и внезапно, ударом одним
— вспомнил!
И сел на диван.
Да. Как же, как же, да.
Вошла, раздраженная, стукнула ружьем о каменный пол и:
— Опять вы, папа, пьете? Я же вам сказала: не смейте больше… и могилы поганите.
Мышь — проклятая, вздувшаяся могильная мышь — так и юркнула в подполье без слов
— Собутыльника опять нашел. Гадость!
Валюська! Милая, родная, ведь, это я, твой Евгений, только тобой, только о тебе —
— Постыдились бы, гражданин.
И — ружьем застучав — исчезла
— в гробу, в гробу! В могиле, могиле! В склепе, в склепе, — среди мокриц и костей —
Лучше бы, лучше бы остаться с Мустафой, обнять Мустафу, острым смертным поцелуем прижать Мустафу к себе…
Потом — пили — пили — пили.
Дикий намек проклятого попа о Валюське и Арбатове… Этот еще откуда?
Все встало в памяти. Все.
Глупо. Несносно, как… Дыло.
Да, кстати. Скорей отсюда!
Ярким морем опрокинулся свет; глаза заболели; кресты, покосившись, щурятся и лезут со всех сторон — из-за деревьев, из-за кустов, из ажурных решеток. Пахнет медом, тлением, осенним теплом.
Сел на могилу, раскрыл чемоданчик. Вот он, последний снаряд — плоский, блестящий, родной брат тех, никогда не выдававших. Не выдаст и этот. Только вставить бикфорд в капсюль, привычно прижать зубами, потом — в черное маленькое отверстие и
спички в кармане.
Что скажут друзья в Трапезунде? Ничего не скажут — не узнают.
Как глупо все — ни веры, ни надежды, ни любви.
Ни матери их софии.
Еще минута, поползет, шипя, зловещий синий огонек, почти невидный при ярком сиянии солнца, с язвительным добродушием доползет до капсюля, воспламенится гремучая ртуть, и все станет просто, как… Дыло.
Придет и Валюська со своим ружьем. Как это у них там называется-то? Маркитантка? Дочь полка, что ли? Атаманша?
Нет, не возьмешь ее насмешкой. Вообще, женщину не возьмешь насмешкой. Смертью тоже не возьмешь. Вообще, не возьмешь смертью женщину.
Женщина — жизнь. А смерть… Дыло.
Нет, так нельзя. Но что, что можно?
В детстве, из монтекристо, подстрелил большого дрозда, дерябу. Деряба мотался по кустарнику в смертной боли — не давался, уходил, подлетывая на четверть аршина, из куста в куст, с кочки на кочку, так и не поймал злой мальчишка с монтекристо дрозда-дерябу. И теперь также не давалась упорная, раненая мысль.
Ну, вот что.
Нужно взорвать банку — так, просто, потехи для, грохотом бухнуть на все окрестности
— пусть арестуют.
— Совсем зря, в пустышку.
В самом деле — не таскать же ее за собой, как собачонку.
На зло всем чертям, — вот, как упырь говорит: чтоб всем шутьям взлететь на воздух. Взорвать — отойти — ждать. Прибегут, встревоженные, схватят, начнут бить. Потом… она. Ведь, она живет тут, рядом.
— Над нами крылья Эблиса.
Схватил бикфорд, блестящий изящный медный капсюль приветно сверкнул из ваты, засунул в него шнур, прижал со злостью зубами.
Глупо, — так глупо, и ну вас всех… к Дылу.
Бумажкой обмотал капсюль, из предосторожности, чтоб не взорвался при вдвигании, — в Анатолии не до этого было — и решительно вдвинул в банку.
Осмотрелся — в воздух бросить, что ли? Живем играючи.
Младенца Симеона,
его же жития было 3 месяца,
Господи упокой.
Не стоит тревожить младенца Симеона, пусть спит младенец Симеон. Вот:
Тише березы не шумите,
Моего Ваню не будите,
Ваня спит, спит, спит
Его ангел хранит.
К чорту Ваню с ангелом. Вот Дылу бы!
Зачем же остановка? С Дылом нужно разделаться. Дыло по-серьезней Вань и младенцев Симеонов. По-серьезней эллинов и их фригийских колпаков. Дыло — свой, родной, а те — чужие, пафлагонские.
Читать дальше