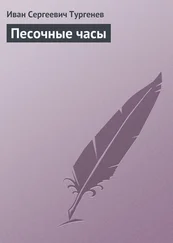Поэтому я ухватился за предложение Альбертины: сопровождать ее в Спортпалас, где будет выступать рейхсминистр, доктор Геббельс.
Альбертина имела пригласительный билет, который давал право привести с собой кого-то из родственников. Как она мне объяснила, это будет собрание старых и очень старых женщин. Некоторые из них даже передвигаются с трудом, но ни за что не пропустят случая послушать рейхсминистра. Вот их-то и приведут внуки или правнуки.
Альбертина надела поверх воскресного платья черное шелковое пальто, на котором красиво выделялись ее многочисленные награды: за старую обувь, за утиль, за бутылки и еще за многое. Над ними красовался круглый партийный знак с изуродованным крестом.
Мы ехали сначала трамваем. Все места в вагоне были заняты, но моей даме уступили место сразу трое: эсэсовец в черном мундире с двойными молниями на петлицах вскочил, щелкнув каблуками; гитлерюнге, сделав «гитлеровский привет»; а какой-то тип в вылинявшем военном кителе — отвесив поясной поклон. Остальные пассажиры, все без исключения, таращили глаза на Альбертину, пока она, поблагодарив всех троих, величественно занимала место эсэсовца, явно показывая, что отдает ему предпочтение.
Я стоял при ней, как ассистент при знамени. Всеобщее внимание падало на меня, так сказать, на излете, но этого было достаточно, чтобы я чувствовал себя самым дурацким образом.
Еще не хватало! На остановке в трамвай вошли две гитлердевицы с плакатиком на груди — сбор на подарки воинам Восточного фронта. Альбертина демонстративно первая сунула монету в алчно ощерившуюся железную кружку. Под строгим взглядом моей дамы пассажиры вылавливали в карманах монеты.
Когда мы выходили, стоявший у двери юнец приветствовал медаленосную старуху со старательностью двоечника, встретившего на улице школьного учителя, а вагоновожатый бросился помочь ей спуститься со ступенек, хотя я уже стоял внизу на подхвате.
Признаюсь, я не ожидал такого триумфа. Альбертина же не скрывала своего удовольствия от того, что имела случай показаться мне во всем блеске…
Не знаю, кому первому пришла в голову мысль об обработке старух в нацистском духе, о немалых капитало- и трудовложениях в эту кампанию, но, надо признать, они окупились с лихвой. Я понял это в тот момент, когда очутился в Спортпаласе, переполненном старухами, наэлектризованными самим фактом своего пребывания в этих стенах и того, что им предстояло, до такой степени, что казалось, с них сыплются искры.
Мои опасения, что я буду обращать на себя внимание, оказались напрасными: среди массы седых голов в самом разнообразном оформлении: от модной стрижки до старонемецкой «короны» из порядком поредевших локонов — кое-где мелькали стриженные «под бокс» юнцы и бледненькие создания со скромными косичками «истинно немецких», «лорелееподобных» девиц.
Прослойка молодежи только подчеркивала характер собрания. Характер, столь определенно выраженный и, я сказал бы, спрессованный, что меня зашатало от неожиданности и даже испуга. Никогда бы я не подумал, что тысячи старых женщин могут предстать в таком единообразии, в таком единодушии и боевитости. Они были как один гигантский подсолнух с тысячами зернышек, одинаковых и максимально сближенных, и этот подсолнух обращался к солнцу, которое вот-вот должно было взойти на убранную цветами, коврами и портретами сцену.
Говорили, что должен был выступить фюрер, но военные дела не позволяют ему даже на короткий срок оставить штурвал рейха. Но министр пропаганды — это тоже светоч, и его слово «проникает в кровь».
Это выражение «проникает в кровь» я с удивлением услышал впервые от Альбертины, но оказалось, что оно имеет право хождения наряду с другими, столь же выспренними и абстрактными.
В стенах Спортпаласа стоял сдержанный гул, в котором угадывались взволнованность и удовлетворение. На всех лицах можно было прочесть довольство собой и окружающим. Оно не было показным.
Да, как ни странно, хотя тут были старухи в массе из среднего слоя горожан, и шла война, каждая имела близких на фронте, и кучу трудностей, и ущемление во всем — продовольственные карточки даже на моющие средства!. И хотя от всего этого не спасали ни стены Спортпаласа, ни пышные речи, — здесь царило довольство…
И мне казалось, я понял, что цель пропаганды заключалась не в том, чтобы от чего-то спасти или научить спасаться, а в том, чтобы увести… Этот зал с его великолепием, и это ожидание, и единение, растворение в толпе — ни от чего не спасали, но они уводили… Уводили от бед и забот, заглушали их шумом оркестров, заслоняли знаменами с золотым шитьем.
Читать дальше