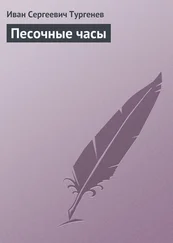Я подумал об этом по контрасту, оттолкнувшись от горького воспоминания о Филиппе, плакавшем над известием о гибели Макса.
Все эти мысли то наплывали, то поглощались одной, занимавшей меня с того самого момента, когда я впервые услышал о военнопленных.
Что значит «их человек»? Он сам — военнопленный или только их связной? И если сам, то кто он? Вернее всего — русский.
Это предположение волновало меня: такая встреча могла приблизить меня не только к местам, ставшим мне родными, но и к моим близким…
Уверяя себя, что это опять же мои фантазии, я все же не мог успокоиться.
На подступах к Ораниенбауму, нас догнал сигнал воздушной опасности. Бомбили упорно, прицельно — «ами» трудились над скрытой от наших глаз целью, долбая одну точку, заход за заходом.
Поэтому я опоздал на четверть часа. В Ораниенбауме шел дождь, и, миновав пустынный сквер, я вошел в кафе «Ипподром». Это было довольно убогое заведение, но имевшее свой «опознавательный знак». Как у нас — песочные часы, здесь таким знаком был «ипподром»— маленькая круглая площадка посреди зала, огороженная барьером, за которым располагались столики.
Поскольку она была так мала и с крашеным дощатым полом, о лошадях не могло быть и речи; не танцевальная ли площадка невежливо зовется ипподромом?
Сдавая пальто в крошечном закутке, я уже заметил через дверной проем, завешенный нитками деревянных бус, человека лет тридцати пяти, читавшего «Дас Райх». У его ног стоял толстый портфель, точно такой же, как мой: обыкновенный стандартный портфель из эрзац-кожи, с двумя застежками и удобной толстой ручкой, — за четыре марки восемьдесят пфеннигов такой можно купить в любом галантерейном магазине.
Мне бросилось в глаза, что его портфель стоит несколько поодаль, прислоненный к ножке стола так, чтобы мне было удобно поставить свой рядом.
Когда я приглаживал перед зеркалом волосы, я поймал его взгляд, он был устремлен на дверь: ждал…
Войдя, я с облегчением увидел, что большинство столиков занято, и попросил разрешения сесть рядом с ним. Он кивнул с тем же выжидающим видом: я показался ему несолидным для такого дела — это уж точно.
— Простите: вы не знаете, почему это кафе называется «Ипподром»? — спросил я, тут же поняв, что пароль — неудачный: такой вопрос возможен в устах любого посетителя.
Последовал отзыв — тоже не бог знает что:
— Посидите здесь минут двадцать пять, и вы все узнаете…
Здесь, по крайней мере, присутствовало число, — это уже лучше.
Он не был русским, но и немцем — тоже. Акцент выдавал славянина, а наружность говорила о том, что он южанин.
— Что будем пить? — спросил он. Нам предстояло провести вместе хотя бы полчаса для придания естественности нашему свиданию.
Он не русский, это разочаровало меня, но почему-то и успокоило. А то, что он военнопленный, не подлежало сомнению. Только в лагере могли сделать иностранца связистом в таком случае.
— Помимо дела, Генрих просил передать привет.
— Как он поживает? — спросил он быстро. — Вы с ним встречаетесь?
— Я теперь редко его вижу, — сказал я, — мне кажется, он бодр и энергичен.
— А я не видел его много лет, — сказал он и посмотрел поверх моей головы, как будто хотел увидеть Генриха той далекой поры.
— Как мне называть вас?
— Вальтер, — я не успел придумать другого и не знал: надо ли.
— Меня зовут Асен Занев. Я — болгарин. Знаете Болгарию?
Да, конечно, знаю. Но как он попал в плен, болгарин?
— А, вы удивляетесь? — понял Асен. — Дело в том, что я служил в Красной Армии. Я — политэмигрант. Бежал из софийской тюрьмы. У нас тоже террор…
Он говорил быстро и нервно, и эта нервность передалась мне: все как у моего отца… Да чего мне таиться, в конце концов?
— Вы жили в Москве? — спросил я.
— Нет, в Донбассе. Работал там.
— Вы— горняк?
— Нет, я врач. На фронте с первого дня. Все политэмигранты, кто только способен носить оружие, воюют. Как же иначе?
— Мой отец — тоже политэмигрант, — сказал я. — И наверное, тоже воюет.
— Вы знаете, я так с вами… Потому что вы — первый немец… который наш… У нас в лагере нет немцев-заключенных, — объяснил он. — Хорошо, что вы такой молодой, — странно добавил он. И объяснил: — Надо будет строить все сначала.
— А… И вы пользуетесь свободой?
— Да, до некоторой степени. Я имею «бесконвойный» аусвайс. Потому что осматриваю прибывающие на станцию эшелоны.
Руки у него дрожали, как у малярика. И лицо было неспокойно.
— Вам, наверное, пришлось много испытать? — спросил я. Мне не хотелось обрывать беседу, видимо важную для него. И наверное, для меня — тоже.
Читать дальше