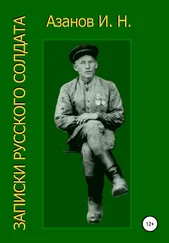Юхим Мусиевич с минуту смотрел в глаза Коту, потом опустил голову и сказал:
— Я в политику не вмешиваюсь.
— Разве так трудно сказать несколько слов? Это же для народа, — недовольно сказал Кот.
— Я не вмешиваюсь в политику! — твердо повторил Юхим Мусиевич и поднял глаза на Кота.
— Подумайте! — в голосе Кота зазвучала угроза. — А то, знаете, наши ребята горячие… Могут и пожечь… И убить…
— Дважды не умирать, — пожал плечами Юхим Мусиевич.
— Значит, нет? В последний раз спрашиваю!
Ивась не сводил глаз с отца.
— Нет, — ответил тот.
— Может, вы боитесь, что вернутся красные и вас накажут? Не бойтесь, они уже никогда не вернутся!
— Я ничего не боюсь, — сказал Юхим Мусиевич с твердостью, которая все больше изумляла Ивася. Теперь сын смотрел на отца с восхищением, укоряя себя мысленно за то, что мог потерять к нему уважение.
Кот повернулся и, не прощаясь, пошел к терну. Руки, как и прежде, он держал за спиной, и все увидели у него револьвер.
— Что теперь будет? — ужасалась мать.
Отец сидел задумчивый.
— Народ! Кулачье! Народ! — сказал он, ни к кому не обращаясь, и улыбнулся. — Раз они просят, чтоб поддержал, так не убьют. Невыгодно им меня убивать…
И все же отец старался не ночевать в хате; спал если не в степи, так в овине или в саду.
Работа в «Просвите» замерла, мужики боялись ходить в театр, да и актеры не рисковали собираться по вечерам. Теперь центром, где встречалась сельская интеллигенция, стала церковь, там никто не тронет, никто ни в чем не обвинит, а в то же время узнаешь обо всех новостях, увидишься с товарищами, условишься о встрече. Собирались также у Наталки, члена «Просвиты», — она жила возле церкви, и у нее всегда можно было встретить кого-нибудь из молодой интеллигенции села.
Ивась, для которого раньше ходить в церковь было тяжелейшей обязанностью, теперь не пропускал ни одной службы. Он забирался на клирос вместе с молодыми учителями — там можно было поговорить, не привлекая внимания молящихся, а главное, посмотреть на свою «единственную», которая пела в церковном хоре.
Иногда после службы Нойко предлагал Ивасю проводить его. В первый раз Михайло Леонтьевич прочитал ему рассказик из какого-то календаря, в котором описывалось будущее общества после социалистической революции. Евреи-комиссары захватят власть и будут эксплуатировать народ, уверял автор.
— Вы знаете, что это написано сто лет назад?
Ивась не знал этого.
— Но вы видите: то, что писалось сто лет назад, теперь осуществилось!
Ивасю этот вывод показался диким, и он поглядывал на Нойко удивленно, вспоминая речь, произнесенную учителем полгода назад.
— Коммунизм — еврейская выдумка, — продолжал Нойко. — Коммунисты-евреи думают не о народном благе, а о том, чтобы установить власть евреев на всем земном шаре.
Ивась горячо возразил, доказывая, что коммунизм это стадия общественного развития и что евреи тут абсолютно ни при чем. Нойко вдруг замолчал, а Ивась, не замечая перемены в настроении собеседника, продолжал:
— Хотите, я расскажу вам об одном еврее из нашего города. О портном Бляхе, которого убили деникинцы…
— Не хочу! — резко оборвал его Нойко, не скрывая недовольства.
Ивась стал прощаться. По дороге домой он думал о лицемерии Нойко и о портном Бляхе, историю которого знал весь город.
Ивась познакомился с Бляхом, когда тот шил ему шинель. А в 1917 году узнал и о его воинственном характере, послушав, как этот щуплый портняжка призывал участников митинга к кровавой расправе со всеми буржуями. Демобилизованный из армии по болезни, он ходил в солдатском обмундировании и в башмаках с обмотками, которые называл «обметки». Кровожадные призывы портного никак не гармонировали с его видом, вызывая чаще смех, чем страх, и все же кое-кто из местных буржуев боялся Обметки, как прозвали Бляха после войны.
Кровожадность Обметки подверглась проверке в 1918 году, когда прогнали австро-немецких оккупантов. Ревком поручил ему и еще нескольким коммунистам привести в исполнение смертный приговор над пойманным гетманским палачом. И тут оказалось, что Блях не смог разрядить винтовку в негодяя, замучившего десятки людей.
— Не могу убивать, — беспомощно моргая глазами, шептал Блях товарищам.
— Да ведь ты же кричал! Тебе же и поручили, потому что ты кричал!
— Не могу…
На следующий день об этом стало известно всему городу, и насмешкам над Обметкой не было конца.
Второй раз Бляху дали винтовку летом 1919 года, когда его, как и всех партийцев, зачислили в коммунистический батальон, защищавший город от деникинцев. Батальон, занявший оборону за Самарой, разгромила конница генерала Май-Маевского, и только очень немногим удалось переплыть реку. Блях был среди этих немногих, и теперь он с дикими от страха глазами бежал по улицам города от белогвардейцев. Без пояса, с развязавшимися и волочившимися по земле обмотками, он изо всех сил топал по мостовой, слыша позади цокот копыт вражеской конницы.
Читать дальше
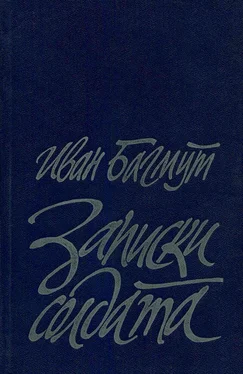



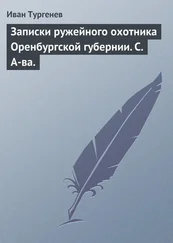


![Иван Охлобыстин - Записки упрямого человека. Быль [litres]](/books/410425/ivan-ohlobystin-zapiski-upryamogo-cheloveka-byl-l-thumb.webp)