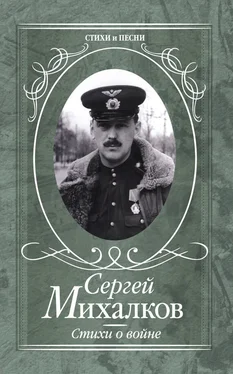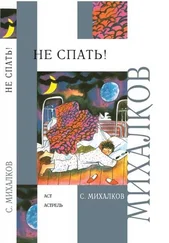Чем станешь ты? Когда, какой
Исписан будешь ты рукой?
Кому и что ты принесешь:
Любовь? Разлуку? Правду? Ложь?
Прощеньем ляжешь ли на стол?
Иль обратишься в протокол?
Или сомнет тебя поэт,
Бесплодно встретивший рассвет?
Нет, ждет тебя удел иной!
Однажды карандаш цветной
Пройдется по всему листу,
Его заполнив пустоту.
И синим будет небосвод,
И красным будет пароход,
И черным будет в небе дым,
И солнце будет золотым!
* * *
Я хожу по городу, длинный и худой,
Неуравновешенный, очень молодой.
Ростом удивленные, среди бела дня
Мальчики и девочки смотрят на меня…
На трамвайных поручнях граждане висят,
«Мясо, рыба, овощи» – вывески гласят.
Я вхожу в кондитерскую, выбиваю чек,
Мне дает пирожное белый человек.
Я беру пирожное и гляжу на крем,
На глазах у публики с аппетитом ем.
Ем и грустно думаю: «Через тридцать лет
Покупать пирожное буду или нет?»
Повезут по городу очень длинный гроб,
Люди роста среднего скажут: «Он усоп!
Он в среде покойников вынужден лежать,
Он лишен возможности воздухом дышать,
Пользоваться транспортом, надевать пальто,
Книжки перечитывать автора Барто.
Собственные опусы где-то издавать,
В урны и плевательницы вежливо плевать,
Посещать Чуковского, автора поэм,
С дочкой Кончаловского, нравящейся всем».
Запись в «Чукоккале» 1937 год
Умирал в больнице клоун,
Старый клоун цирковой.
На обманчивых уколах
Он держался чуть живой.
Знали няньки, сёстры знали,
Знали мудрые врачи:
Положенье безнадёжно,
Хоть лечи, хоть не лечи!
И, судьбой приговорённый,
Сам артист, конечно, знал,
Что теперь уже бессилен
Медицинский персонал.
Навестить его в палату
Приходили циркачи:
Акробаты и жонглёры,
Прыгуны и силачи.
Приходили, улыбались,
Лишь бы только правду скрыть.
О житье-бытье негромко
Начинали говорить.
Он встречал собратьев шуткой,
Старой байкой ободрял —
Не смешную клоунаду
Перед ними он играл.
И в последнее мгновенье,
В скорбный миг прощальный свой,
Он в палате вдруг увидел
Свет арены цирковой.
1970
Безучастно ты смотрела
На людское оживленье,
И вино тебя не грело
В час дурного настроенья.
Незаметно, осторожно
Я твою погладил руку,
Но при этом ты, возможно,
Ощутила только скуку.
Я сказал: «Давай не будем
Повторять того, что было!»
Глядя вслед каким-то людям,
Ты сказала: «Я забыла…»
В том ответе односложном
Захотел я разобраться, —
Угрожающе-тревожным
Он не мог не показаться.
Я спросил: «А что забыла?»
Усмехнулась, помолчала
И шепнула: «Как любила…» —
«Так давай начнем сначала?»
«Я любить тебя устала», —
Ты ответила серьезно. —
Для надежды веры мало,
А для веры слишком поздно…»
Все прошло, и все осталось.
И ни слова про разлуку…
И плечо плеча касалось,
И рука искала руку.
Днем и ночью, все песком
Шел верблюд, качал горбом.
Он, верблюд, под седоком
Не считал себя рабом.
Шел верблюд, мотал губой,
А за ним шагал другой.
И на нем седок другой
В такт губе мотал ногой.
Так, в движенье, как во сне,
Каждый думал о своем;
Седоки – о чайхане,
А верблюды о своем…
Месяц – декабрем зовут.
Снег идет. Морозит слабо.
Увлеченный снежной бабой,
Я за городом живу.
Я страдаю оттого,
Что во сне все чаще вижу
Нос бессмысленный и рыжий —
Цвет морковки у него.
Над зрачками из углей
Деревянные ресницы.
Перед бабой-небылицей
Я ребенка не смелей.
Кочерыжка, снега хруст,
Угольки, щепа, мочало…
Может, это все начало
Мне неведомых «искусств»?
Только знаю, что в лесу
Будет март и воздух слабый,
И разлуку с этой бабой
Я легко перенесу.
По земле проходит осень.
Бродит ветер сквозняком
Между елей,
Между сосен,
За худым березняком.
По жнивью проходит осень
Между сел и городов
Урожайностью колосьев,
Сытой свежестью плодов.
По Советскому Союзу
Гонит грузы в поездах.
Звонкой плотности арбузы
Оседают в городах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу