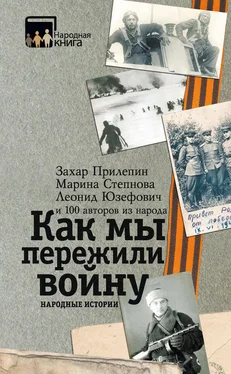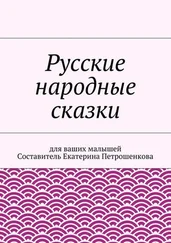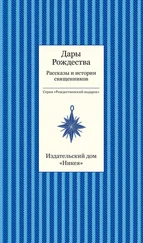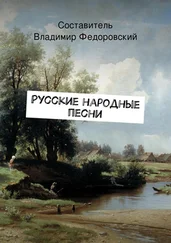Отец работал электриком в институте уха, горла, носа. Однажды его послали поменять сгоревшую лампочку в морге, который находился в подвале. Большой подвал был почти под самый потолок забит трупами, свет не горел. Лампочка находилась на середине потолка. Отец (14-летний мальчик) в полной темноте на ощупь полз по трупам, чтобы найти патрон со сгоревшей лампочкой. Нашел, поменял, и свет загорелся. Я даже не представляю, что с ним было. Он рассказывал, что самое страшное – это обратный путь по трупам ползком в узком проходе под потолком при свете.
В нашем доме две дворничихи мародерствовали – ходили по квартирам умерших и тащили все ценное. Весь дом знал об этом. У них хватило ума тащить с 5-го этажа пианино вдвоем. Пианино поехало и придавило одну из них насмерть.
Мой отец ушел из жизни в 1991 году. Материально он был обеспечен: работал и еще получал пенсию. У него в квартире я обнаружил 3 довольно больших бумажных пакета высотой сантиметров по 50 с сухарями белого и черного хлеба. Это не были остатки со стола, а аккуратно нарезанные кубики. Если учесть обстановку в стране в то время, вероятно, страх перед голодом не оставлял его до конца жизни. Также я нашел у него много книг о блокаде – он ею жил.
Мама всегда плакала, когда по телевизору показывали что-нибудь о блокаде, особенно фильм «Балтийское небо», и вспоминала, как она с бидончиком ходила пешком зимой за водой.

Когда родители рассказывали о блокаде, в интонациях не звучало никакого пафоса, героизма. Как-то просто, обыденно. Да и вспоминали вслух не очень часто, только мама при этом плакала.
Рассказывали о блокаде редко, но я чувствовал, что она с ними присутствует постоянно.
Я думаю, что блокада всю жизнь была для них как бы мерилом ко всему, что происходило вокруг, в любые времена.
Медали моих родных «За оборону Ленинграда» теперь хранятся у меня.
Если имена моих родных упомянут в книге о блокаде, я буду счастлив. Они это заслужили, да и память для потомков.
Колобов Владимир Владимирович
«Когда живое все от взрывов глохло…»
Екатерина Михайловна Назаренко – жительница блокадного Ленинграда, которая все 900 дней провела в голодном городе. Когда мы пришли к ней в гости, первое, что она спросила: «Вы голодны? Проходите на кухню».
Напоила сладким горячим чаем с бутербродами и печеньем и только после этого начала свой неторопливый рассказ.
Собственные воспоминания перемежались со стихами Ю. Воронова. Изредка Екатерина Михайловна останавливалась, чтобы вытереть слезы и глубоко вздохнуть…

…Что может помнить о тех трудных днях ленинградской блокады 6-летний ребенок? Но, похоже, память детская такая цепкая, что самые яркие и тяжелые события врезались в нее на всю жизнь, и забыть это уже невозможно… Страшное, конечно, было время, вспоминать о нем очень, очень тяжело, но и не вспоминать невозможно. Я гоню от себя мысли, хочу забыть эти годы, но забыть никак не могу, никак. Вот ложусь спать, и до трех-четырех часов ночи все эти картины возвращаются, возвращаются… Эта боль осталась, и нет сил забыть, выгнать из себя воспоминания.
Забудет ребенок за малостью лет
Блокадные голод и холод,
Но врежется в память из множества бед
Особенно острый осколок…
Наша семья жила в двухэтажном деревянном доме на Крестовском острове, там и застала нас война. Мама умерла, когда мне исполнился 1 год, с рождения воспитывала меня бабушка, папина мама. Еще с нами жила моя крестная – родная дочь моей бабушки, моя тетя. Вот так мы и жили втроем.
В начале войны были введены карточки, но 8 сентября 1941 года случилось страшное. В Ленинграде находились так называемые Бадаевские склады, где хранился запас продовольствия и всего прочего для населения. Эти склады были полностью уничтожены немцами. Началась блокада, эвакуация, и прежде всего спасали детей. Мы тоже поехали на вокзал, но дорога оказалась перекрытой, и нам пришлось вернуться обратно.

Голодное было время, холодно очень, морозы достигали 42 градусов. Отопления не было, дров не было, электричества не было, канализация не работала, транспорт, как шел, так и остановился, – город жил на выживание, очень было тяжело. Сразу же ликвидировали все продовольственные карточки, продуктов все равно не было, остались только хлебные – 125 грамм на один день. Это, конечно, очень мало, и выжить на эти 125 грамм было невозможно. Да и хлеб был не тот, что сейчас. Это был маленький кусочек, который помещался на ладони. Состоял он из того, что шло раньше на корм скоту: жмых, дуранда, силос. Поэтому хлеб был тяжелый и влажный, но это был все же хлеб – символ нашей жизни, о другой еде мы не знали, и умирая, люди ничего не просили, просили только хлеба. И вот за этими 125 граммами люди каждый день с утра стояли в очереди на сорокаградусном морозе. Можно было взять хлеб на 2 дня сразу, но никто не брал, потому что знали, если возьмут – все равно съедят, а завтра – голодная смерть.
Читать дальше