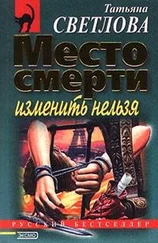– Чего тебе?
– Отпусти меня.
– Ха! Да я бы отпустил. Но куда ты пойдёшь? Завтра рана твоя начнёт гнить. Через линию фронта тебе не перейти, а вот до виселицы ты ещё можешь дожить.
– Какая тебе забота о моей жизни? Ну, положим, меня не повесят, а издохну я в снегу. Гарантированно издохну. Тебе-то не всё равно?
– Твоя судьба быть повешенным, Красный профессор. Помнишь, я тебе обещал? Не повесили в семнадцатом, так повесят сейчас. Божий промысел можно лишь отложить, но отменить нельзя.
– Я знаю, за что ты мстишь мне!..
– Я? Гы-ы-ы!!! Не-е, я не мщу. Мстительность сродни гордыне и суть страшнейший из грехов. Не мститель я, но орудие Господа.
– Небескорыстное.
– Конечно! Надо же на что-то жить, а за таких, как ты, господин комендант платит дойчмарками. За живых – дороже. За мёртвых – дешевле. Ты, конечно, всё равно издохнешь, но я не хочу терять свои деньги.
– Отпусти. Это тебе зачтётся за покаяние перед партией. Ты уже каялся раз, Колдун. Покаешься и вторично. И партия примет твоё покаяние.
– Я беспартейный…
– Конечно! – лицо Родиона Петровича пылало. Октябрина старалась не смотреть на темнеющие в его подглазьях кровоподтёки, а отец горячился и, казалась, вовсе забыл о своих увечьях. – Тогда тебе придётся ответить за содеянное. Тебя будут судить. Судить по совокупности и за нынешние твои поступки, и за прежнее лживое покаяние.
– Я каюсь только перед Господом.
Родион Петрович хотел возразить, но закашлялся. Колдун смотрел на него с брезгливым интересом. Октябрине страшно хотелось вступиться за отца. Никто не смел смотреть на него вот так, как на последнего гада, как на платяную вошь или крысу, но, сцепив до скрипа зубы, Октябрина молчала.
– Ты, Колдун, и по молодости был подлецом. Я знаю и свидетельствую: скопидомная тварь, приспособленец и приживальщик у эксплуататоров трудового народа. Конечно, ты не полюбил революции. Конечно, в тайне озлобился, а покаяние твоё – фальшивка. Хочешь ли ты знать, девушка, кто это такой?
– Бывший кулак? – робко спросила Октябрина.
Больше всего ей сейчас хотелось успокоить отца. Подать ему чаю или, по нынешней скудости, хоть кипятка, но она не решалась, опасаясь выдать их обоих. Родион Петрович как-то слишком уж выразительно глянул на Октябрину, а та дрогнула, заметив, что Колдун перехватил его взгляд и быстро отвернулась.
– Я вам лучше расскажу кое-что из истории родного края, Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, – теперь голос отца зазвучал ровно и уверенно, словно он стоял на университетской кафедре.
Колдун отчего-то заволновался, подался было к двери, но на улице выло и мело ненастье. Пришлось вернуться и слушать..
* * *
– Матюху Подлесных в Борисоглебском уезде знал каждый. Кто помнит господский дом внука декабриста Волконского в Павловке, тот помнит и библиотеку во флигеле. Там, на втором этаже, висел портрет царя Николая Кровавого в натуральную величину. Хозяин поместья, князь Сергей Михайлович очень любил и эту комнату и этот портрет. Там были разные вещи, старые, привезённые его дедом и бабкой из Сибири. Поднимаясь в княжеский кабинет, я каждый раз проходил через «Сибирский музей», знал все картины и фотографии наперечёт: портреты декабристов, виды казематов, дед и бабушка князя в камере. На князе арестантская роба. Вдоль стен стояли витринные шкафы. В них документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно.
Личность его кровавого величества мне по сей день во снах снится. С цепями и киянкой в руках является. Царь мне про Читу рассказывает, про Петровский завод и Благодатный рудник…
– Нехорошие сны для коммуниста, – заметил Колдун, но Красный профессор продолжал говорить так, словно в комнате он был один, словно его история не предназначалась для чужих ушей, а говорил он только для себя.
– Помню в библиотеке было окно огромное на западную сторону. А оконные рамы – дубовые. Такие огромные окна я только в княжеском доме и видывал. После окончания реального училища я работал в Павловке помощником управляющего. Одним из помощников. Так, мальчонка на побегушках. Я тогда молодой совсем был. А Матюха Подлесных работал на конюшне, на кузне… Да всюду! Трудолюбивый был. И льстивый. Князь относился к нему снисходительно. Матвей был сыном княжеского крепостного, раскрепощённого и разбогатевшего крестьянина. Можно сказать – свой человек. С рождения знакомый. Такой вот жизненный пример: угнетённый, сам стал угнетателем. Но поскольку Павловское хозяйство по тем временам считалось в уезде прогрессивным, Матвей Подлесных учился ведению дел. А отец его поставлял в имение разные продукты, скобяную и прочую дрянь. Князь семью Подлесных уважал. Сам Матвей почитал князя не менее, чем родного отца. Но были у Матюхи некоторые, скажет так, особенности. Я бы назвал их кулацкими задатками. Матвей Подлесных не только любил и копил деньги. Он давал в их рост под проценты. Папаша-кулак Матвею крупные суммы доверял. Тот ссужал многим. На этом деле семейство имело хорошую моржу. Матвей в те годы хоть и был человек ещё молодой, в финансовых операциях проявлял сноровку многоопытного выжиги. Половина уезда была у Подлесных в долгу. Сам князь, Сергей Михайлович, хоть и аристократ, но потомок декабриста, а значит, революционным идеалам не чуждый, при случае, если замечал, смеялся над ним, ёрничал. Ты же читала, милая «Преступление и наказание»? Нет? Там писатель Достоевский старуху подобную описал, а нашему Матюхе тогда и двадцати лет не сравнялось, но кулацкая закваска у него уже наличествовала. Ростовщик – типичное, противоестественное порождение прогнившего строя. Но самое забавное, что этот вот поместный ростовщик ещё и на клиросе пел. Религия, значит, ему не мешала деньги наживать. Если б не революция, выбился бы, пожалуй, и в большие магнаты, и в церковные старосты. Но революционная справедливость восторжествовала, каждого приобщив к производительному труду. Представь себе, Матвей из экономии даже не посещая кабаки. Носил очень простую одежду и обувь. К тому же папаша его, несмотря на значительное состояние, продолжал шить собственными руками обувь. Экономили на всём, а деньги клали в банк или давали в рост. Но революционная справедливость свершилась, и когда губернский банк лопнул…
Читать дальше