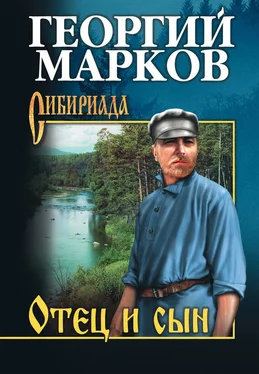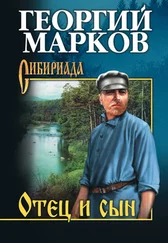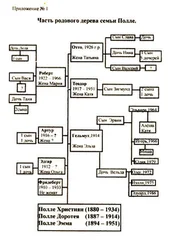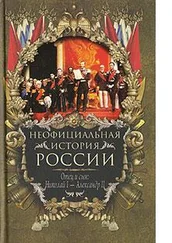Костер запылал, задымил черными завитушками. Вскоре котел забулькал, запыхтел, и по всему берегу разнесся аромат смолы.
Когда варево стало жидким, Скобеев принялся длинными деревянными щипцами окунать косы кудели в котел и бросать их на фанерный щит. В одно мгновение Алешка подносил этот щит Лаврухе и Еремеичу. Те брали руками в кожаных рукавицах пропитанную кипящей смолой косу за концы и, растянув ее вдоль барки, стамесками и деревянными молотками забивали в пазы. Работа шла в стремительном темпе: раз-два — и готово!
— Велик ли один человек, а смотри, как в деле важен! — трубил Лавруха. — Встал Алексей на подноску кудели, и все пошло быстрее в десять раз. Помнишь, Тихон Иванович, как в прошлом году на этом самом месте не ладилось? Кой ты куделю вынешь из котла, принесешь, а она уже остывает, холера ее забери…
— Четверо — не трое. У троих шесть рук, у четверых — восемь, — смеялся Скобеев, и все ласково посматривали на Алешку.
Вдруг Скобеев вскинул руки над головой, крикнул:
— Стоп, братцы! И куделя и смола кончились!
Лавруха и Еремеич забили последний паз, победно размахивая молотками, подошли к костру.
— После такой работы, Тихон Иванович, и пообедать не грех, — сказал Еремеич. — А что, если наварить картошки? Я соленой рыбы принес.
Лавруха шумно одобрил предложение Еремеича. Согласился с ним и Скобеев. Обед готовили сообща: Скобеев принес из проруби два ведра воды, разлил воду по котелкам, Еремеич и Алешка начистили картошки, а Лавруха наколол дров. И картошка и чай на жарком костре поспели быстро.
Обедали в теплушке. Кроме картошки, соленых чебаков и черного хлеба, на столе ничего не было. Но Лавруха, исполнявший обязанности раздавальщика, приправлял эту скудную пищу веселым словцом:
— Кушайте, Тихон Иванович, гусятинку-поросятинку. Вот ножка, вот крылышко, а это сладкая, вся в желтом жирке гузка, персидскому царю такая вкуснота не снилась, — сыпал он как по-писаному, накладывая картошку на обыкновенную фанерную дощечку. — А тебе, Еремеич, я кусочек пожирнее положу. Ты из себя сильно худой, тебе жир-то впрок пойдет. Ешь, ешь, не стесняйся, наращивай тело. — И он, почтительно изогнувшись, подносил Еремеичу дощечку с парящейся картошкой. Алешку тоже потчевал от всей души, приговаривая, что он молодой, в рост еще идет, и ему особенно важно питаться мясом, салом в маслом. Мускулы, мол, еще крепче будут от такого питания.
Скобеев, Еремеич да и Алешка покатывались со смеху, а Лавруха даже не улыбался. По его серьезному виду можно было подумать, что он говорит правду, не выдумывает.
Обед и в самом деле показался Алешке необыкновенно вкусным. Хорош был и чай. Собственно, чая в точном смысле этого слова не было. Скобеев бросил в котелок горсть чаги. Чага разопрела, окрасила кипяток в темно-коричневый цвет, отдавала приятным березовым запашком. После крепко соленых чебаков Еремеича пилось с истинным удовольствием. Лица у всех раскраснелись, на лбах заблестели капельки пота, Лавруха громко крякал, аппетитно причмокивал языком, приговаривал:
— Эх, холера ее возьми, и пьется же с гусятинки-поросятинки…
После обеда всем скопом направились к катеру. Лед вокруг него был давно расчищен, и катер, как и барки, покоился на подставах. Но, побаиваясь, как бы подставы не подтаяли и не рухнули раньше времени, Скобеев решил протолкнуть под корпус катера увесистые лиственничные сутунки. Их скатили прямо с кручи. Пробив пешнями отверстия, сутунки положили поперек корпуса катера. Теперь уже никакие причуды весны не могли оказаться опасными. Когда четвертый сутунок просунули под самую корму, над городом, над всем заснеженным простором Заречья раздался протяжный гудок.
— Ну вот, и шабашить пора! — сказал Скобеев и посмотрел в ту сторону, откуда несся этот густой, бархатистый, приятный уху Алешки звук.
Но слова Скобеева озадачили парня. Он беспомощно заморгал, поглядывая то на Тихона Ивановича, то на Лавруху с Еремеичем.
— Это паровая мельница бывших Фуксмана и Кухтерина, Алеша, голос подает. Значит, четыре часа, кончай, рабочий люд, работу до завтра, — пояснил Скобеев, заметив недоумение на лице парня.
— А солнце-то еще высоко! — воскликнул Алешка. Он не привык у деревенских богатеев работать по часам. Его время измерялось иначе: от темна до темна.
— До революции, Алеша, и рабочие трубили по двенадцать часов, а случалось и больше, — сказал Скобеев. — А теперь хозяин — сам рабочий класс. Он устанавливает порядки. Чтобы хорошо работать завтра, чтобы победить завтра — надо беречь силы сегодня, отдыхать сегодня. Михей твой о тебе не думал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу