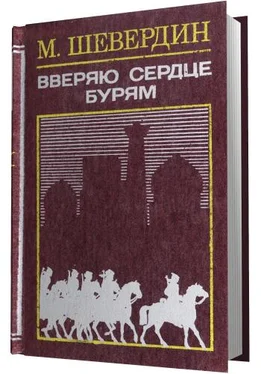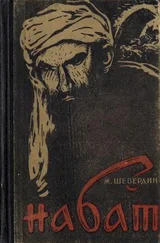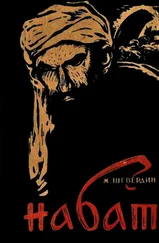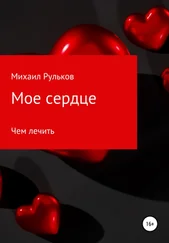На курултае она тоже не обнаружила их.
...Оказывается, в караван-сарае, где делегаты остановились на отдых, Али сказал Мирзе словами знаменитого поэта:
Налей веселящей влаги
в золотую чашу, подыми ее, прежде чем
наши черепа превратятся в совки для сора.
— Наргис, думаю, никому о нас не скажет: она возвышенна душой и прекрасна. А на курултае могут оказаться личности, знающие вас, дорогой Мирза, не как делегата от советских трудящихся и пролетариев. И тогда... вместо кресла в зале совета, мы с вами окажемся за надежной решеткой.
После недолгого раздумья Мирза приказал:
— Мы не пойдем на курултай. Нечего лезть в нору змеи! Я уезжаю!
— А я? Куда песок в вихре, туда и песчинка?
— Помолчи... Ты пойдешь... Найди способ поговорить с этой несчастной. Это легко. Никто не обратит на тебя внимания. Все женщины придут на заседание с открытыми лицами, и никто не увидит ничего позорного в том, что мужчина разговаривает с женщиной. Ты подойдешь и прямо скажешь Наргис...
— Что я могу сказать?! О, Омар Хайям, как ты был прав, говоря:
Процветает кабак, благодаря нашему пьянству,
и кровь за две тысячи сожалений на нашей шее.
Почему я, несчастный поэт Али, должен идти и угрожать первой красавице мира, возвышенной душе?!
— Ты пойдешь, потому что я приказываю тебе именем братьев-мусульман.
Как всегда, в разговоре со своим господином Али растерялся. Руки у него дрожали, на лице выступил обильный пот. При Мирзе Али терял дар речи. Безвольный, подавленный, он слушал его, глупо приоткрыв рот и тихо сглатывая слюну. Всей душой он протестовал, но не мог возразить.
— Тенью ты скользнешь за Наргис, — продолжал Мирза. — Незаметно покажешь вот этот нож и скажешь: «Не смей выдавать Мирзу!» А когда убедишься, по ее глазам или словам, что она ничего не сказала и не скажет про нас, добавишь: «Наргис, ты жена эмира. Ты не получила развода. Поэтому ты должна поехать с Мирзой за рубеж в Кала-и-Фату, пред светлые очи халифа и дождаться его решения. Ежели халиф даст тебе развод и отпустит тебя, ты останешься в Кабуле, и тебя, разводку, возьмет в жены господин Мирза, дабы покрыть твой стыд...»
— Нет. Никогда!
На лице Мирзы появилась гримаса нетерпения: Он не привык, чтобы его тень Али подавала голос:
— Тебя не спрашивают.
Как всегда, Али открещивался от всех замыслов Мирзы, вздымая руки, униженно кланяясь, стонал, плакал, цитировал горестно самых знаменитых поэтов прошлого.
Желающий со стороны мог наблюдать эту странную сцену.
Мирза с непроницаемым выражением своего бледно-мучнистого лица, с которым гармонировала строгая домуллинская чалма и белый халат ангорской шерсти, стоял столбом у коновязи и взирал, как йиги-ты-конюхи седлают коней. Бровь у него не дрогнула, когда Али в отчаянии позволил призвать на его голову проклятия.
Он, легко вскочив на лошадь, протянул в сторону Али руку с черными пальмовыми четками.
— Я сказал!
Бессильно склонив голову, Али дрожащей рукой схватил руку хозяина и сухими губами приложился к ней.
Уже уехали со двора Мирза и его йигиты, уже разошлись люди, наблюдавшие эту сцену, а Али все еще стоял, упершись взглядом в землю, усыпанную соломой и сухим навозом.
...На пути к Душанбе еще были тяжелые ночные переходы через перевал, была долина Локай Таджик, где во тьме ночи горели в горах красные тревожные глаза костров. Но вот, наконец, колонна делегатов вступила в столицу. Делегатов празднично встречали жители. Среди встречающих Баба-Калан увидел сияющее прелестное лицо своей Савринисо, которую он письмом вызвал из Тилляу в Душанбе. И она, остановившись в воинской части, где ей выделили комнату, ждала мужа.
Баба-Калан пригласил своих друзей и пилота аэроплана к себе в гости.
Савринисо принимала гостей в восточном наряде и всех покорила.
Пилот, который расстрелял было из пулемета делегатскую колонну, был большой любитель восточной поэзии и сам писал стихи о Памире и горных красавицах, осмелился выступить со стихотворным тостом, завершив его словами:
— Мы уезжаем из Душанбе. Счастливо. Надеюсь, вы напишете нам. И я надеюсь, в одном из писем будет: «Поздравьте с сыном!»
— Я слышал, вас переводят в Москву? — спросил Баба-Калан пилота. — Война кончилась. И уже ничего не останется, как палить из пулемета по мирным колоннам путешественников.
— Я отвечу вам словами арабского поэта Ибн Ямина:
Не жди добра от того,
кому ты нанес удар.
Читать дальше