Если Каролина выходила на работу, перемогая слабость, Берта не упускала случая заметить:
— Тебе только тридцать пять, а ты уже падаешь с ног. Я с ужасом думаю, что останется от тебя к сорока годам, если так пойдет дальше.
Каролина молчала. Ей нечего было возражать сестре, перед которой она была так же бессловесна, как Анне-мари перед ней самой. И все-таки брак с нелюбимым клейменым человеком казался ей слишком обидным жребием, чтобы подчиниться ему без сопротивления.
Гуго ничего не требовал. Он поверял Берте свои планы и ждал. Казалось, он понимал, что он не в праве чего-либо требовать. И даже, если он замечал, что в дверь Каролины прошел Игнат, он молчал. В таких случаях он уходил к себе в конюшню и там, прячась от людей, плакал. Это были покорные слезы нищеты, у которой другие, шутя, отнимают последнее.
Берта однажды застала его в конюшне в таком состоянии и затем сейчас же прошла к Каролине для решительного разговора. Нравственное негодование придавало ее доводам особенный вес. Положение и на этот раз осталось невыясненным, но, хотя еще ничего не было решено между Гуго и Каролиной, дверь Каролины отныне была заперта для Игната. Берта настояла на этом: раз Каролина еще не ответила Гуго окончательно, раз она еще думает, она не должна испытывать его терпение.
И кроткий взгляд Гуго после этого случая, стал еще светлее, в то время как Игнат задумался и насторожился.
Сущность дела была ему понятна, но подробности, ежедневно усложнявшиеся, ускользали от него. Чтобы их понять, было мало одних жестов, требовались слова.
Одно он понимал ясно: его здесь не только ставили на одну доску с осколком человека, каким был Гуго, но этот осколок все заметнее перевешивал его. Осколок чувствовал себя привольно на козельбергской земле, он ходил по тропам, протоптанным с детства, в то время как его водили по этим тропам под конвоем. Он был здесь случайным человеком, пленным с номером и жестянкой, и, что бы он ни делал, в этих местах он всегда стоил бы дешевле любого безносого немца.
Обидно было, что в деле, касающемся его, его не спрашивали. Приходила Берта, улыбалась Каролине с выжидающим видом и шла дальше. Каролина подымала голову, глядя вслед шагавшему за плугом Гуго, и тяжелая задумчивость надолго искривляла ее лицо. Анне-мари робко сидела рядом, не решаясь прервать молчание. Что-то совершалось на его глазах, история подвигалась вперед, а он ничего не знал.
Иногда в разговорах работников он слышал имя Каролины и слова, которых он не понимал, а все, чего он не понимал, он истолковывал в обидном для себя смысле. Шульц и Корль, казалось ему, знали обо всем больше, чем он. Даже Костя, болтавший с немцами, казалось, что-то скрывал и издевался, и неожиданно во время работы Игната прорывало, и он начинал по разным поводам одергивать Костю, глядя на него со злобой, а Костино молчание и осторожность только делали его вдвойне подозрительным.
Был даже случай, когда Игнат пустил в ход руки, за шиворот вытащил Костю из-под стенки ржи, с межи, куда тот пошел по нужде. Костя был не первый, кто ходил туда, и было странно, что Игнат, прежде не обращавший на это внимания, вдруг так рассердился.
— Я отучу тебя гадить по межам, — кричал он. — Нашел темное место. Ты думаешь, рожь тут вечно стоять будет? Когда я буду косить, а ты за мной с горстями побежишь, — ты же в кучу носом уткнешься… Ты у меня ее руками уберешь…
Злоба Игната шла кривым путем, — ближайший товарищ не мог бы его понять. Она не затронула ни Гуго, ни Берты, но от нее несколько дней терпел Костя, от нее же пострадал юный Пауль, который как будто чересчур много знал, — из столкновения с Паулем Игнат сам вышел потрепанным и с забрызганным грязью лицом, — а затем она обрушилась на самого Альфонса Вейнерта. Альфонс не имел отношения к делу, но он был хозяин и немец, высшая точка здешних мест, и гнев Игната не мог миновать его.
Дни перед сенокосом были для пленных днями годовщины: их пригнали к Альфонсу перед сенокосом два года назад, и Альфонс не забывал отмечать эти дни маленькими подарками. В прошлом году каждый из пленных получил по пачке сигарет, в этом году было дано по две пачки. А после подарков произносилась речь о переходе на долгий летний день и о прибавке платы: двадцать пять пфеннигов не годились для четырнадцатичасового дня и сразу превращались в пятьдесят, в шестьдесят пфеннигов. Бумаги и никеля у Альфонса хватало, а пленные, у которых деньги уходили на табак и очко, видели в прибавке порядок и справедливость и уже два раза — вскоре по приезде и в прошлом году — выслушивали Альфонсову речь с одобрением.
Читать дальше
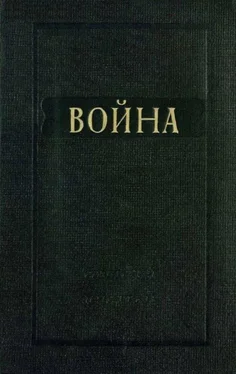
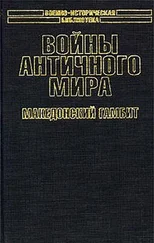

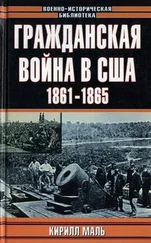
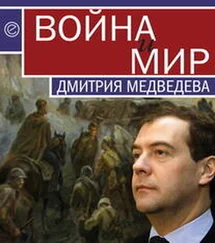




![Кирилл Чернов - Испано-американская война в мире императора Владимира [СИ]](/books/417753/kirill-chernov-ispano-thumb.webp)


