Былин замечает:
— Да, брат, паны дерутся, а у холопов чубы болят.
— От бы панам чубы надрать, може холопам лёгше станет…
Артамонов, загребая свернутой козьей ножкой махорку из кисета, как всегда думая какую-то долгую, постоянную думу, медленно, с длинными паузами говорит:
— Я все думаю… За что воюем? Кто нас обидел? Тебя, меня, его… Сердит ты на немца? Нет. И я нет. И никто здесь на него не сердит. За что? Тут мужик — и там мужики. Тут мастеровые — и там мастеровые. И воевать нам не за что, нету нашего интересу в этой драке… Тут интересы господские, хозяйские, не нашего брата… Иной раз думаешь, думаешь и эдакое придумаешь… Эх, сукины дети, собрать бы здесь побольше народу, да пойти в Питер, да спросить там начальство: «какой такой важный интерес может быть, чтоб такая тьма народу за его пропадала? Кто надумал воевать? Покажите-ка…» Да взять их и при всем народе засечь розгами, чтобы другим неповадно было. И всех, кто там за войну — сюда послать: пускай повоюют, а мы поглядим. И немцам скажем — пусть то же сделают.
Былин весело хохочет.
— Правильно: вы повоюйте, а мы поглядим.
Кто-то робко возражает:
— Да кто-то воевать должен. На то и солдаты, чтобы на войну шли… Ежели армия родину защищать не станет, так кто же?
— А кто нападал на твою родину?
— Немцы… Известно кто…
— А ты сам видал? Ну, расскажи, как дело было? Кто на кого, да за што нападал?. Ну, говори…
— Этого нам знать не полагается… Наше дело маленькое… Это дело начальства.
Арматонов крепко рассердился и даже сплюнул злобно.
— Тьфу, сукин ты сын, холуй господский! «Дело начальства». А твое дело — за начальство помирать? И ничего больше?
— Присягу давали…
— «Присягу давали». Холуй — холуем и помрешь… А за что помрешь? За чьи интересы? За свои, что ли?
— Мы за Россию.
Кто-то говорит:
— У евонного батьки сорок десятин.
— Оно и видать… Заметно, чью сторону тянет.
Есть почище хозяева… Которые по десять тысяч десятин…
— По десять?
— Да… И по двадцать бывает… Таких помещиков много. И больше бывает. У одного только царя миллион десятин да сотни поместьев, да десятки дворцов.
— Миллион?
— Да… Да у монастырей миллионы десятин.
— Миллионы?
— А-а… То-то и оно.
Скрывается последняя телега. Пестрая, рваная толпа, подводы, лошади, коровы, скарб, плач детей и женщин — все исчезает позади…
Ударили неожиданные морозы. Пока мы идем, ноги согреваются, останавливаемся — ноги быстро стынут. Мы все еще в фуражках. Где-то в обозе второго разряда болтаются наши сибирские полушубки, папахи и варежки. Они согревают обоз, а мы здесь замерзаем. Солдаты ругаются.
— Ну, и сволочь Горпыченко, маринует зимнее обмундирование.
— А причем Горпыченко? Всему полку не дают, значит, начальство не приказало.
— Боятся, что нам ходить тяжело будет, взопреем.
— А верно, ходить тяжело будет.
— Зато тепло.
Мы уже давно непохожи на тех подтянутых, крепко подпоясанных солдат, вид которых обожали полковой и батальонный командиры.
Всевозможными хитростями мы раздобываем разные тряпки, обрывки материи, старые шапки и напяливаем на себя. Я купил у беженца большую облезшую барашковую шапку и натянул на голову, закрыв уши. Воротник шинели поставлен и обвязан полотенцем вместо шарфа. Былин обвязал длинной портянкой голову, как деревенские бабы платком, и сверху надел фуражку. Сапоги обмотал пестрыми лоскутьями из рваных матрацов. Василенко снял с мертвого немца шлем и хорошо себя в нем чувствует. Родин, очевидно, украл башлык и совсем благодушествует. Запасливый и хозяйственный Кайзер сложил в узкую полоску кусок фланели и обвязал уши, засунув узлы под фуражку. Кто-то из запасных, найдя большой клок рваного одеяла с вылезающей ватой, набрасывает его себе на плечи…
В стороне от дороги сгоревшее местечко. Посреди его — развалины кирпичного здания. В разных местах остатки кирпичных домов: остальные домишки, беспорядочно разбросанные по всей площади, сгорели дотла и маячат бело-красными полуразрушенными трубами.
Солдаты делятся впечатлениями.
— Здорово расколошматили! Ничего не оставили. Вдребезги.
— А зачем по штатским стреляют? Ведь никого они не трогают. Тут бабы ходят, детишки играют, зачем в них стреляют?
— Жили себе люди, трудились, кусок хлеба ели, никому не мешали, вдруг приходят: бах, бах, бах, и кончено…
— Господи, сколько горя от войны! И кто ее выдумал? Кому она нужна? Кому от нее радость?
Читать дальше
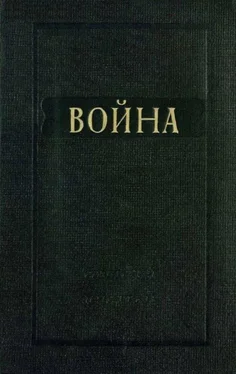
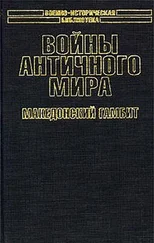

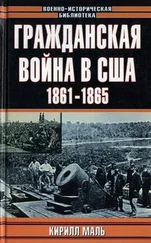
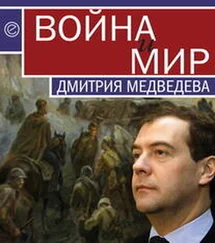




![Кирилл Чернов - Испано-американская война в мире императора Владимира [СИ]](/books/417753/kirill-chernov-ispano-thumb.webp)


