— Ты был, кажется, на войне?
— Еще бы, кто не был на ней? Вся армия состояла из нас; только в начале, когда были победы, начальники не считали нас за людей, а за механизмы вроде пушек. Вставай, копай, стреляй, ложись. Не смей думать. Вставай, копай, ложись. Люди явились потом, в восемнадцатом. Ты, наверно, никогда не думал, что у твоих солдат в голове ящик, в котором лежит кое-что человеческое. Нам вообще не везло. Моему поколению особенно. Мне с детства уже было плохо. Сначала лестница, ушиб головы и прочее. Потом брюшной тиф; доктора сказали: не перегружайте его верхний этаж, не обременяйте его знаниями, он не выдержит, и меня отдали в слесарную мастерскую. Ну, на фронте нанюхался я разного газа — по-моему, его выдумывали, как номера в цирке, каждую неделю новый — обливали меня всякой пакостью, раз даже я из миномета получил в спину банку с австралийской обезьяной…
Он затянулся сигарой, посмотрел на Штарке и покачал головой:
— Никогда бы не узнал! Ты так изменился, дяденька, что в жизни не узнать тебя. Постарел ты. Видно, война не в красоту всем.
— Говори только о себе и не называй меня дяденькой.
— Можно и о себе. Но на войне я узнал, что к чему. Меня просветили в лоск. А потом в революцию кое-кто со мной поработал.
— Хороши были твои учителя. Кто же это тебя просвещал?
— Первым моим учителем был кузнец — Петр Брайэр — хороший кузнец, замечательный кузнец, всякому дай бог таким быть, он мне объяснил разницу между хозяином и рабочим, между государством и революцией, между трудом и эксплуатацией. Научные слова все.
— Надеюсь, на него нашлась хорошая веревка, на твоего кузнеца?
Кубиш закашлялся. Он слишком много захватил зараз сигарного дыма. Он сидел почти развалясь, и шарф трепался у него на коленях.
— Брайэр сейчас коммунист. Вторым моим учителем был слесарь Томбе, убит в последний день войны, такая досада, а это был герой, он о фитиль гранаты зажигал папиросы, прежде чем бросать гранату. Он мог двоих столкнуть лбами как орехи. Третий был славный парень. Погиб в революцию в Баварии — Пауль Зальт. Мне рассказывали, как он погиб. Он вышел из Совета народных комиссаров весь увешанный бомбами, поскользнулся на лестнице, упал, и бомбы все взорвались. Грохот был такой, что магазины закрылись во всем квартале. Вот они и учили меня уму-разуму. Был еще один, Эрнст Астен, из штрафной роты студент, бунтовал в роте, с ним я дольше всех оставался. Пришли мы в Берлин и заняли рейхстаг. Грязные, сам знаешь, с фронта. Нас так и называли «вшивый отряд». Ну, вшей у нас было достаточно.
Штарке остановил его. Лиловые щеки его надулись, глаза забегали по потолку. Штарке вспоминал.
— Астен, Астен, Эрнст Астен — я помню, как это было. Да, это был любовник моей племянницы. Мы принимали его за английского шпиона, который через Алиду добирался до моего огнемета. Его раз видели в разговоре на улице с одним англичанином, причастным к разведке, да, его мы упрятали в штрафную роту. Я хорошо это помню, да, да. Где же он теперь?
— Мы с ним были спартаковцами, дрались на баррикадах, а сейчас он в тюрьме, он избил какого-то майора, — черт его знает, с дурацкой какой-то фамилией, Шранк… Шрунк… Шрекфус, кажется, — при исполнении обязанностей. Ну, его и припаяли.
— Что же ты думаешь делать, несчастный человек?
— Неизвестно, кто несчастнее. Я равнодушен к богатству, а те, кто неравнодушны, скоро будут раскаиваться. Как кто-то однажды сказал в воскресной школе: богатство вроде морской воды — чем больше пьешь, тем больше хочется. А меня гонят отовсюду, не дают мне работы за политику, хотя, говорят, сейчас даже инженеры без работы. Один мой приятель думал, думал и махнул в Советский Союз к большевикам. Ничего, пишет, хорошие ребята.
Штарке встал и прошелся по комнате. Кубиш теперь только начал осматриваться, но довольно равнодушно.
— Кубиш, — сказал Штарке, — рабочие должны работать, правители должны править. Ум государственный, торговый, военный и ум мастерового — разные вещи. Смотри на меня, Кубиш, я прожил честную жизнь и живу в достатке, и могу смотреть в глаза людям и не спать, как собака, где придется. И мне никто не грозит тюрьмой. Неужели у тебя при виде моей тихой и скромной квартиры нет никакого желания, тайной мысли хотя бы, иметь такой же спокойный угол? Неужели тебя не берет зависть, что я сплю на чистой теплой постели, в хорошем доме, где тепло и уютно?
Кубиш свистнул.
— Дядя! да меня не берет никакая зависть. Мы все скоро будем спать на теплой постели и в теплом доме.
Читать дальше
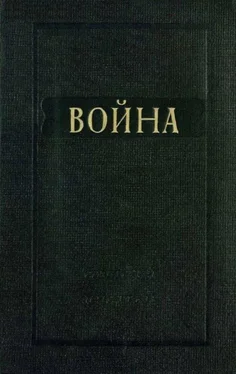
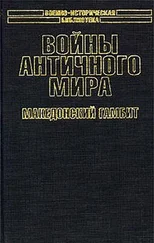

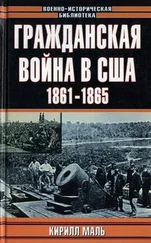
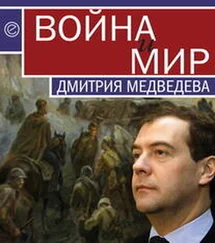




![Кирилл Чернов - Испано-американская война в мире императора Владимира [СИ]](/books/417753/kirill-chernov-ispano-thumb.webp)


