Штарке задохся. Кайзер ударил стэком по сияющему сапогу. Это был жест из его коллекции жестов, и все знали, что этот жест означает недовольство.
— Да, принимая во внимание условность маневренного боя, ты дал им холодный душ. Плохой психолог…
Комендант снова обрел голос. Он уже ревел от волнения и преданности:
— Принимая во внимание условность маневренного боя, я приказал поливать ряды атакующих струями горящего масла.
Тут наступила тишина, в этой тишине водяной анекдот перерастал в нечто большее, но было еще время оставить его анекдотом. Все зависело от положения стэка. Стэк поднялся, но не ударился о сапог, он повис в воздухе, потому что рука уперлась в бок и сложилась в кулак. Этот жест обозначал бодрое раздумье.
— Возможно ли это? — сказал кайзер. — Возможно ли жечь горящим маслом атакующие войска?
Анекдот умер. Осталось одно недоумение. Осталось ответить на безумный, собственно говоря, вопрос по всем правилам субординации, но вся свита не знала, что ответить. Кивера и каски зашептались; Анекдот возвращался снова во всей силе, теперь он делал смешным и кайзера.
И тогда кайзер, взглянув в глаза коменданту, скороговоркой сказал: «Благодарю тебя за службу» и повернулся, как на шарнирах, к свите, не успевшей даже переглянуться:
— А теперь мы разберем маневр, господа.
Сухо треснули ножки складных стульев, полевых столов и пюпитров, зашуршали карты, извлекаемые из полевых сумок и портфелей. Наступил торжественный час итога.
Штарке обтирал лоб и сгонял морщины, дрожа, как заведенный мотоцикл. Плотный и очень высокий офицер взял его за руку, приблизил тонкие бритые цинковые губы к его уху и сказал отчетливо:
— Вы изложите ваш проект точно и возможно скорее и вручите его мне. Понятно, капитан?
В доме профессора Бурхардта гости засиделись очень поздно. Виноват в этом был сам хозяин. Он говорил больше всех.
— Все обстоит благополучно, — между прочим, говорил он, — средняя продолжительность жизни увеличивается, число неизлечимых болезней падает, конституции государств год от году улучшаются. Все это делает закон превращения энергии, закон сосредоточения человека на пользу государства. Люди, занимающиеся сразу несколькими профессиями, ощущаются как случайности…
— Однако, — сказал влюбленный в свое дело Фольк, историк культуры, — однако, если мы вспомним тысяча трехсотые годы, то из пяти самых великих художников: Чимабуэ, Иоанна Пизанского, Арнольфо, Андрея Пизанского и Джотто — четыре были одновременно живописцами, архитекторами, скульпторами, временами даже инженерами. Позднее живопись поглотила все. Законы Рима — Амстердама — Фьезоле, живопись, светотень и колорит, Рафаэль, Рембрандт и Фра-Анжелико охватили мир. Германские музеи приняли их в свои хранилища. Вы хотите сказать, что реализм завладел жизнью. Посмотрим же область той же живописи. Ван-Эйк был несомненно первый реалист. Конечно, не итальянцы. Итальянцы слишком много видели руин и старых статуй, чтобы быть реалистами до конца. Земля, которая под своим тонким слоем хранит то обломок барельефа, то отбитую руку, не может ощущаться до конца реально. Нидерландцам было легче. Там уверенно выставляли богатые купцы и их жены некрасивые лица и тяжелую роскошь одежд на картинах. Это, конечно, реализм. Но на тех же картинах Ван-Эйка, Петера Кристуса мы видим выпуклые зеркала, висящие на стене, в которых отражаются фигуры, удлиненные и искаженные, а у Петера Кристуса отражается даже то, чего нет на картине — отражаются улица и фигура на ней. Таким образом выход из реализма был найден четыреста лет тому назад, и вот возьмите путь от этих выпуклых зеркал до Кандинского и футуризма. Автопортрет Дюрера. Вы видите даже отражение окна в глазах, и все-таки это не реально. Если форма доведена до полной чистоты, то это уже не реально. Значит футуризм от бессилия? Может быть, и да. Я хочу сказать, что пути искусства исчерпаны, нужно начинать сначала. Великое потрясение войны может возродить германское искусство. Рост реклам и развитие промышленности вряд ли оплодотворят наших художников. Я могу учить как историк только прошлому. Правда, мы имеем еще изумительных некоторых мастеров, но это умирающее племя. Требуется свежая кровь.
Бурхардт взглянул на свои стены. С них смотрели на него зализанные портреты Лембаха, наивные аллегории Морица Швинда, тяжелобедрые валкирии Каульбаха, толстозадые кельнерши, выдаваемые Штуком за вакханок.
Читать дальше
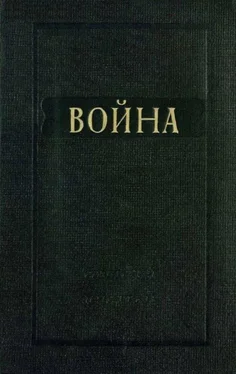
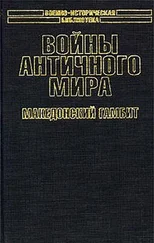

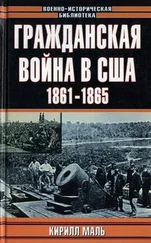
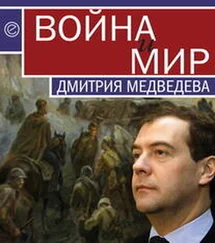




![Кирилл Чернов - Испано-американская война в мире императора Владимира [СИ]](/books/417753/kirill-chernov-ispano-thumb.webp)


