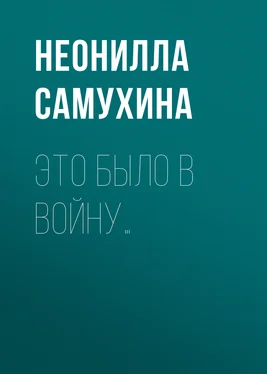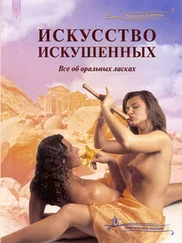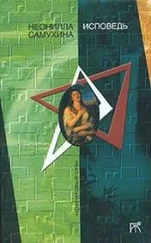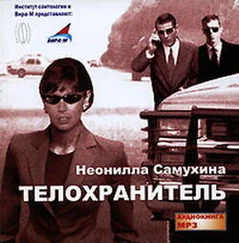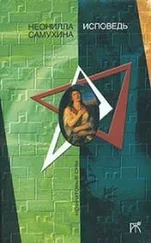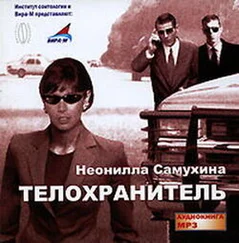– Слава тебе, Господи! – возблагодарила Бога Неонилла и перекрестилась.
Подумав, что железнодорожный путь гарантированно приведет их к следующей станции, она решила вернуться обратно к насыпи, но идти не по путям, а внизу, по ложбинке, тянущейся параллельно насыпи, откуда, в случае опасности, можно было в любой момент скрыться в кустах лесополосы.
Дождей давно не было, трава высохла и слежалась, земля отвердела, и потому в ложбинке идти было легко.
* * *
Шли они так с внучкой несколько часов, время от времени останавливаясь передохнуть. Наточка держалась молодцом, не капризничала и на усталость не жаловалась, хотя была еще совсем кроха – всего-то четыре годика.
Солнце уже изрядно палило, и, несмотря на то, что шли они по затененной насыпью низинке, Неонилле было жарко и маетно, что уж говорить о ребенке! Поэтому женщине приходилось брать внучку на руки и нести, сколько хватало сил, чтобы та успевала передохнуть.
Когда солнце достигло зенита и стало уже невыносимо жарко, Неонилла решила, что пора переждать зной и поесть. Она достала из чемодана свою толстую вязаную кофту, постелила ее под ближайшим кустом, создававшим ажурную имитацию тени, и усадила на нее внучку.
В чемодане среди вещей были припасены фляжка с водой, буханка хлеба и квадратик сала, который ей удалось выменять на последней станции на свои парадные туфли.
Вытащив из плотного кожаного чехольчика скальпель, вывезенный из Ленинграда, Неонилла нарезала сало тоненькими, почти прозрачными пластинками и положила их на такие же тоненькие, гнущиеся в руках ломтики хлеба.
Скальпель ей достался от сына Владимира, учившегося на хирурга, а теперь воевавшего на Ленинградском фронте. Острое лезвие скальпеля не раз помогало ей в блокадном Ленинграде разрезать липкий и вязкий, как глина, стодвадцатипятиграммовый суточный кусочек хлеба [1] В блокадном хлебе муки было чуть больше половины, остальное составляли практически несъедобные примеси. Так в сентябре 1941‑го хлеб готовили еще из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки, но затем к этой смеси стали добавлять льняной и хлопковый жмых (отходы маслобойного производства – семечки, раздавленные вместе с кожурой), обойную пыль, мучную сметку, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки, а с 1942 года – и пищевую гидроцеллюлозу для придания дополнительного объема. Формы для выпечки за неимением нормального масла смазывали соляровым маслом, поэтому блокадный хлеб имел специфический запах – жмыха и машинного масла. – Здесь и далее примечания автора.
на три слоя. Получив в магазине по карточкам их с внучками три хлебных нормы, она брела домой и там делила весь хлеб на девять тонких листиков, после чего брала себе и откладывала внучкам по одному «листику», с перерывом в четыре часа. Наточку она учила рассасывать солоноватый хлеб во рту до жидкой кашицы и сглатывать маленькими глоточками, потом запивая водой. А полугодовалой Олечке сама распускала хлеб в воде, растирая комочки вилкой, и поила малышку получившейся мутной жижицей из бутылочки с соской.
Время от времени она ходила к Кузнечному рынку и обменивала там что-то из одежды или драгоценностей на куриное мясо, крупу и сахар, если повезет, а если нет, то на дуранду [2] В блокадном Ленинграде использовались свои термины для обозначения того, что можно было есть: дурáнда – жмых из отработанных семечек; хряпа – верхние или нижние листья капусты, в мирное время не использовавшиеся в пищу.
, олифу или столярный клей… На олифе можно было печь лепешки из дуранды, а из столярного клея получался вполне себе студень. Условия обмена были грабительскими, но что ей оставалось делать, если домашние припасы иссякли еще в первый месяц блокады… Ленинградцы до войны вообще не были запасливыми, да и зачем – ведь всегда можно было сходить в магазин и купить свежих продуктов на день. Эта беспечность и погубила многих. А, с другой стороны, где и как было хранить продукты? Домашние холодильники «ХТЗ‑12», которые перед войной только начали выпускать в Харькове, были недосягаемой роскошью. Сельских погребов с ледником в городе не устроишь, поэтому все предпочитали брать продукты в магазине, где они хранились в холодильных шкафах или в прилавках с холодильными машинами. В домашних условиях можно было сохранить только консервы и свои заготовки, соленья-варенья, а вот что-то из мясного или молочного сохранять удавалось разве что зимой, на морозе, сложив продукты в ящичек за окном или на балконе. Летом же старались готовить так, чтобы все было съедено за один раз, без остатка, который мог бы испортиться за день.
Читать дальше