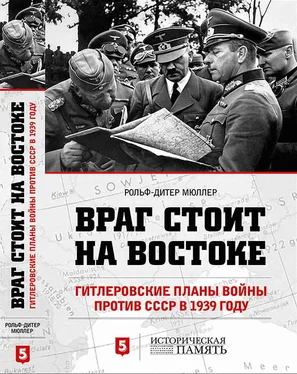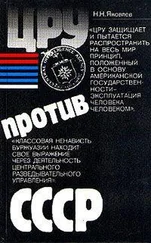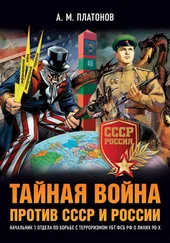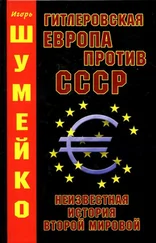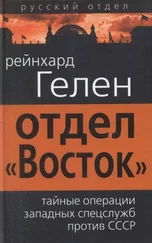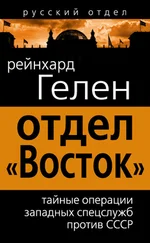Польская армия, которой Пилсудский руководил лично с 1926 г., была отнюдь не в блестящей форме. Владислав Сикорский (1921–1922 гг. — начальник Генерального штаба, 1922–1923 гг. — премьер-министр, 1924–1925 гг. — военный министр), доверенное лицо маршала, опубликовал в 1928 г. в Париже свои воспоминания о войне 1920 г {34} 34 Sikorski, La Campagne Polono-Russe.
. Анализируя сильные и слабые стороны польской армии, он особо подчеркивал недостатки в планировании боевых действий, указывал на пассивность и боязливость командующих среднего и низшего звена, ошибки в тактическом и оперативном планировании, неразвитость оборонительных сооружений, а также слабую подготовку офицерского корпуса. Польской армии недоставало, по мнению многих, наступательного порыва, а также способности реагировать быстро и энергично, в том числе в условиях обстрела.
В Министерстве рейхсвера в Берлине этим наблюдениям было уделено большое внимание. Они подтверждали собственные впечатления немцев и свидетельствовали о том, что после 1920 г. польская армия не достигла большого прогресса в своем развитии. Эта точка зрения была распространена вплоть до 1939 г. В 1927 г. рейхсвер провел тайную оценку состояния польской армии {35} 35 Reichswehrministerium (Heer), Die polnische Armee, vom 8.8.1927, BA-MA, RH 12–2/59.
. Немцам импонировал политический вес польской армии в государстве — это и понятно, если принять во внимание наличие в Германии правительственной системы, в которой командование рейхсвера утратило присущий ей ранее авторитет.
Хотя Франция и отдавала предпочтение партнерским отношениям с Польшей, та располагала старым вооружением и слабо развитой военной промышленностью. При 28 миллионах жителей в численном отношении Польша, страна, намного уступающая по площади Германии, в случае войны могла вывести на поле боя куда более сильную армию. Численность польской армии в мирное время составляла 320 тысяч человек, что в три раза превышало численность рейхсвера. Если такую армию распределить на два фронта, то большой угрозы она представлять, по мнению немцев, не будет.
В Берлине, кроме того, увидели, что офицерский корпус польской армии недостаточно профессионален; был учтен и национальный фактор. Лишь 58% населения принадлежало к числу «чистых поляков». Во время Первой мировой и в войну 1920 г. поляки — выходцы из бывших немецких областей в культурном отношении занимали самый высокий уровень и «зарекомендовали себя под началом хороших командиров как довольно хорошие солдаты». Выходцы из Конгрессовой Польши в культурном отношении занимали самый низкий уровень и, неся службу под началом русских командиров, оказывались как солдаты несостоятельны. В случае войны национальный вопрос «мог бы оказать решающее влияние на надежность и боеспособность польской армии» — прогноз, который сыграл свою роль в 1938–1939 гг. Наряду с другими меньшинствами в составе польских войск присутствовали украинцы (17,9%), евреи (10,7%) и немцы (5,7%). «Более всего поляки ненавидят украинцев из Восточной Галиции. […] Евреи тоже угнетаются поляками» {36} 36 Ebd., S. 30.
.
Авторы исследования делают заключение, что численности польских войск недостаточно, чтобы обеспечить полную безопасность границ государства. Поэтому в Варшаве — и это шло вразрез с представлениями французов — делали ставку на подвижные мобильные части, в духе военного мышления немцев. Польская армия в конце 1920-х гг. располагала некоторым количеством устаревших танков, в основном речь шла о легких бронеавтомобилях (едва ли засекреченные опытные разработки рейхсвера выглядели лучше), но в случае войны имеющихся единиц техники было достаточно, чтобы сформировать две механизированные дивизии. Ввиду плохого состояния дорог поляки вместо механизированных боевых средств делали ставку на кавалерию — наблюдение, которое позволяло говорить об отсутствии у Польши намерений вторгаться в Германию {37} 37 Vgl. dazu die illustrierte Studie des Truppenamts vom März 1931: Heeresmechanisierung und -motorisierung in Polen, BA-MA, RH 12–2/59.
.
И если правда, что польские стратеги, организуя оборону страны, исключали войну в условиях двух фронтов как способ противостояния немецко-российскому альянсу (поляки рассчитывали на вмешательство Франции в случае нарушения неприкосновенности ее западной границы), то можно предположить, что они, скорее, ожидали повторения войны с Россией. Однако какие существовали методы оценки способностей и намерений Красной армии?
В июне 1926 г. командование сухопутных войск Германии подготовило обстоятельный тайный документ, в котором в ясной и четкой форме излагались слабые стороны возможного союзника; в то же время ему приписывался значительный потенциал {38} 38 Hier und im Folgenden: Heeresleitung, Die Sowjetrussische Armee, vom 10. Juni 1926, BA- MA, RH 12–2/59.
. Военная кампания 1920 г. ознаменовалась серьезными начальными успехами, однако Красная армия не смогла отразить «мощный, скоординированный контрудар». Причина, по мнению авторов, заключалась не в высшем руководстве (Тухачевского, ставшего начальником Генерального штаба, старались не критиковать), а в младших командирах, которых подбирали преимущественно с учетом их политических взглядов. В качестве причины называлась «слабая» дисциплина простых солдат, которые воевали только из страха перед доносчиками и начальством. Однако даже убежденные коммунисты, оставив службу и вернувшись в сельскую местность, вскоре снова превращались в «антикоммунистически настроенное крестьянство». Тем не менее солдаты Красной армии в противостоянии «всякому внешнему врагу (тем более что советское правительство умело использовало национальные чувства русских) были готовы в любое время отправиться на войну и пожертвовать собой во имя Родины».
Читать дальше