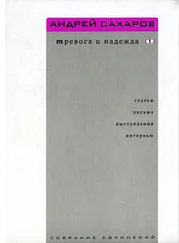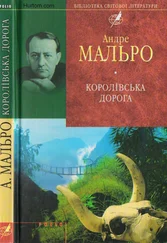Двое из гражданских гвардейцев уже были допрошены. Конечно, они отдали честь на римский манер, но они думали, что деревня занята фашистами, и хотели проскочить, чтобы добраться до линии республиканцев. Ложь, которую одинаково мучительно было и слушать, и говорить, как всякую явную ложь; гвардейцы, казалось, барахтались в ней, задыхаясь, словно удавленники, в своих тугих мундирах. К судейскому столу подошла крестьянка. Фашисты заняли ее деревню — она тут поблизости, — потом ее отбили республиканцы. Она видела гвардейцев, когда они подъехали на машине.
— Когда они меня вызвали насчет сына… меня, когда они меня вызвали, я думала, чтобы похоронить его. Нет, чтобы меня допросить, душегубы…
Она отступила на шаг, словно для того, чтобы лучше разглядеть.
— Вот этот был там, он был там… Вот если б убили его сына, что б он тогда сказал? А? Что б он сказал? Что б ты сказал, тварь?
Раненый гвардеец оправдывался, судорожно хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды. Мануэль подумал, что он, возможно, и не виновен: сын был расстрелян до того, как допрашивали мать, и ей повсюду мерещились его убийцы. Гвардеец говорил о своей верности республике. На бритом лице его соседа понемногу выступал пот; с нафабренных усов стали падать капли, и эта жизнь — капля за каплей — высвечивалась на неподвижном лице, словно это была собственная жизнь страха.
— Вы приехали, чтобы перейти к нам, — сказал председатель, — и не можете сообщить нам никаких сведений?
Он повернулся к третьему гвардейцу, который еще ничего не сказал. Тот посмотрел на председателя в упор, давая понять, что он обращается только к нему.
— Послушайте. Вы — офицер, несмотря на то что вы с ними. Мне все это надоело. У меня военный билет фалангиста Сеговии № 17. Вы должны меня расстрелять — понятно, и, я думаю, сегодня. Но перед смертью я хотел бы иметь удовольствие видеть своими глазами, как расстреляют этих двух подлецов. У них билеты № 6 и № 11. Мне противно на них смотреть. Теперь я обращаюсь к вам, как солдат к солдату: прикажите им замолчать или выведите меня отсюда.
— Гляди, какой гордец, — сказала старая крестьянка, — а сам-то детей убивает.
— Я с вами! — кричал председателю раненый гвардеец.
Председатель наблюдал за говорившим офицером: сильно приплюснутый нос, мясистые губы, короткие усы, курчавые волосы — лицо из мексиканского фильма. В какой-то момент председателю показалось, что офицер даст пощечину раненому гвардейцу, но он этого не сделал. Его руки не походили на руки жандарма. Может быть, фашисты внедрили своих людей в гражданскую гвардию, как в казарму Ла-Монтанья?
— Когда вы вступили в гражданскую гвардию?
Офицер не отвечал, уже безучастный к военному суду.
— Я с вами! — снова завопил раненый, и впервые его голос прозвучал убедительно. — Я вам говорю, я с вами!
Мануэль вышел на площадь после того, как раздался залп взвода. Все трое были расстреляны на соседней улице; тела упали ничком, головы на солнце, ноги в тени. Крохотный пушистый котенок тыкался усиками в лужу крови возле офицера с приплюснутым носом. Подошел какой-то парень, отстранил котенка, смочил указательный палец в крови и начал писать на стене: «СМЕРТЬ ФАШИЗМУ». Молодой крестьянин засучил рукава и направился к фонтану мыть руки.
Мануэль смотрел на тело убитого, на лежавшую поблизости треуголку, на парня, склонившегося над водой, и на еще почти красную надпись. «Надо создать новую Испанию — и против тех, и против других, — подумал он. — И вряд ли одно окажется легче другого».
Солнце нещадно пекло желтые стены.
Глава пятая
Рамос и Мануэль идут вдоль железнодорожной насыпи. Вечер как вечер, без пушечной стрельбы. На фоне сумеречного неба, напоминающего фон на портретах всадников, в запахе сосен и горной травы Сьерра клонится живописными холмами к мадридской равнине, над которой ночь опускается, как над морем. И неуместный бронепоезд, притаившийся в туннеле, кажется забытым войной, ушедшей вместе с солнцем.
— С полчаса, наверное, ругался с ребятами, — сказал Рамос. — Более десятка желают обедать у себя дома, а трое — в Мадриде.
— Сейчас охотничий сезон, они путают. И каков же результат твоих ругательных переговоров?
— Пятеро остаются, а семеро уходят. Будь они коммунистами, все бы остались.
Несколько одиночных выстрелов и отдаленный орудийный раскат еще сильней подчеркивают покой горных вершин. Прекрасная будет ночь.
— Почему ты стал коммунистом, Рамос?
Читать дальше