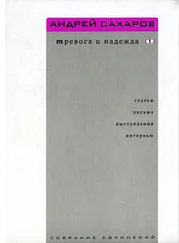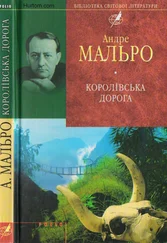Проходили солдаты без мундиров, сопровождаемые приветственными криками, за ними бежали дети… Это были солдаты, покинувшие своих фашистских командиров в Алькала-де-Энаресе и перешедшие на сторону народа.
— Погляди на этих детей, — сказал Шейд, — они себя не помнят от гордости. Вот это я люблю: люди стали как дети. То, что я люблю, всегда так или иначе напоминает детей. Ты смотришь на мужчину, видишь в нем ребенка — совершенно случайно — и не можешь глаз от него оторвать. Если это женщина, то, понятно, тебе крышка. Ты погляди, детскость, которую они обычно прячут, так и рвется наружу: одни здесь слоняются без дела, ковыряя в зубах, другие там, на Сьерре, погибают, и это одно и то же… В Америке представляют себе революцию как взрыв гнева. А здесь сейчас главное — хорошее настроение.
— Не только хорошее настроение.
Лопес бывал златоустом, только когда говорил об искусстве. Сейчас он не нашел нужных слов и сказал только:
— Слушай!
По улице в обоих направлениях бешено мчались машины, на них белой краской были обозначены огромные начальные буквы названия профсоюзов или СБП. Сидевшие в них приветствовали друг друга поднятым кулаком и кричали: «Salud!» И вся ликующая толпа, казалось, была объединена этим криком, как в нескончаемом братском хоре. Шейд закрыл глаза.
— Каждый человек должен когда-нибудь найти то, что его одухотворяет, — сказал он.
— Гернико говорит, что величайшая сила революции — это надежда.
— Гарсиа тоже это говорит. Все это говорят. Но Гернико меня злит: меня злят христиане. Продолжай.
Шейд походил на бретонского кюре, и в этом Лопес видел главную причину его антиклерикализма.
— И все же это так, черепаха! Возьми меня, чего я добиваюсь вот уже пятнадцать лет? Возрождения искусства. Хорошо. Здесь все просто. Напротив стена, они мелькают по ней тенями, все эти болваны, и не замечают ее. У нас полно художников, хоть пруд пруди; я нашел одного на прошлой неделе — спал себе под сводами Эскуриала [35] Эскуриал — знаменитый монастырь близ Мадрида, основанный испанским королем Филиппом II.
. Им нужно дать стены. Когда нужна стена, ее всегда можно найти, пусть грязную, закрашенную охрой или сиеной. Ты ее белишь и отдаешь художнику.
Шейд курил свою глиняную трубку с величием индейского вождя и внимательно слушал: он знал, что теперь Лопес говорит серьезно. Безумец подражает художнику, а художник похож на безумца. Шейд остерегался различных теорий искусства, опасных, по его мнению, для любой революции. Но он знал творчество мексиканских художников, а в Испании — огромные неистовые фрески Лопеса, щетинившиеся когтями и рогами. В них действительно чувствовался язык бунтаря.
Два автобуса, набитые ополченцами с торчавшими за спиной винтовками, отправлялись в Толедо. Там мятеж еще не был подавлен.
— Мы даем художникам стены, старина, голые стены: валяйте, рисуйте, пишите! Те, кто будет проходить мимо, нуждаются в вашем слове. Нельзя создавать искусство для масс, когда нечего им сказать, но мы боремся вместе с ними, мы хотим вместе с ними строить новую жизнь, и нам многое нужно еще сообщить друг другу. Соборы вели борьбу за всех вместе со всеми против дьявола, у которого, кстати сказать, морда Франко. Мы…
— Осточертели мне эти соборы! Здесь, на этой улице, гораздо больше братства, чем у них там во всех соборах. Валяй дальше!
— Искусство — не проблема сюжета. Нет большого революционного искусства. Почему? Потому что все время только и рассуждают о директивах, когда нужно говорить о назначении искусства. Значит, надо сказать художникам: есть у вас потребность сообщить что-нибудь бойцам? (Конкретным людям, а не такой абстракции, как масса.) Нет? Тогда займитесь другим делом. Да? Тогда вот вам стена. Стена, братец, и все. Каждый день мимо нее будут проходить две тысячи человек. Вы их знаете. Вы хотите с ними говорить. Так вот, устраивайтесь. У вас есть возможность, и вы хотите ее использовать. Пусть мы не создадим шедевров, это не делается по заказу, но мы создадим свой стиль.
Роскошные здания испанских банков и страховых компаний там, наверху, в полумраке, и колониальная помпезность министерств пониже уплывали в былые времена, в ночную тьму и с ними уплывали причудливые катафалки, люстры клубов, канделябры и знамена с галер, неподвижно повисшие во дворе морского министерства в эту душную ночь.
Какой-то старик выходил из кафе; он слышал слова Лопеса и положил ему руку на плечо.
— Я напишу картину, а на ней — умирающего старика и моющегося молодца. Моющийся кретин — спортивный, безмозглый энтузиаст, словом, фашист…
Читать дальше