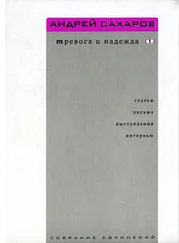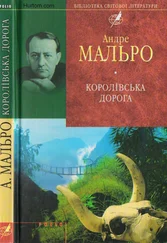Другие улицы, наоборот, казались нетронутыми. Когда-то Гарсиа рассказывал Мануэлю, что в Джайпуре, в Индии, все дома прячутся за раскрашенными ложными фасадами, нищету каждой глинобитной лачуги скрывает розовая маска. Бриуэга не была городом, полностью отданным во власть нищеты, она была городом, отданным во власть смерти за этими фасадами, которые наводили на мысли о послеполуденном сне и летнем отдыхе и приоткрытые окна которых глядели в скорбное небо.
До слуха Мануэля доносилось только журчанье. Началась оттепель; вода струилась под каменными конными статуями, стекала по желобам; потом разливалась по всем ручейкам, бежавшим по булыжным мостовым старой Испании, резвилась, поплескивая, как горные речушки, среди выброшенных на улицу фотографий, обломков мебели, кастрюль и развалин. Все домашние животные куда-то делись; в заполненной плеском нежилой тишине ополченцы, молча бродившие по улицам, двигались по-кошачьи бесшумно. Чем ближе к центру города подходил Мануэль, тем отчетливей слышал он другие звуки, примешивавшиеся к плеску воды, такие же прозрачные, как этот плеск, звеневшие ему в лад: то были звуки фортепьяно. В ближайшем доме, фасад которого обвалился и все комнаты были на виду, какой-то ополченец одним пальцем подбирал песенку. Мануэль прислушался: сквозь журчанье воды до него доносились звуки трех фортепьяно. На каждом наигрывали одним пальцем. Отнюдь не «Интернационал»: каждый медленно подбирал одним пальцем песенку — как будто единственным слушателем была бесконечная печаль дорог, поднимавшихся от Бриуэги к белесому небу и усеянных разбитыми грузовиками.
Утром Мануэль сказал Гартнеру, что с музыкой он покончил; а сейчас, в этот миг, когда он был один на пустой улице города, отбитого у неприятеля, он чувствовал, что больше всего на свете ему хочется музыки. Но играть ему не хотелось; и хотелось побыть в одиночестве. В бригадной столовке было два граммофона. Пластинки, которые он взял с собой в начале войны, не уцелели, но в коробке большого граммофона пластинок хватало: Гартнер был немец.
Мануэль нашел симфонии Бетховена и «Прощание». Бетховена он любил умеренно, но сейчас это не имело значения. Граммофон поменьше Мануэль унес к себе и завел.
Музыка, снимая волевое напряжение, полностью возвращала его в прошлое. Он вспомнил, как протянул револьвер Альбе. Может быть, прав был Хименес, и он обрел тогда свое место в жизни. Он принял как призвание ратное ремесло, ответственность перед лицом смерти. Как лунатик, внезапно просыпающийся на краю кровли, лишь при этих звуках, басовых, нисходящих, он ощутил и осознал всю чудовищность равновесия, которое сохранял, — равновесия, утрата которого неизбежно влечет к падению в кровавое месиво. Ему вспомнился слепой нищий, которого он видел в Мадриде в ночь Карабанчеля. Мануэль был в машине начальника госбезопасности; фары внезапно выхватили из темноты ладони, которые слепой выставил перед собой и которые казались огромными из-за оптического эффекта, вызванного наклоном Гран-Виа; казалось, эти ладони искровянились обо все мостовые, истерлись обо все тротуары, казалось, по ним пронеслись все — немногие — машины, которыми располагало ополчение, и пальцы слепого были длинные, словно пальцы Судьбы.
— Девяносто пятый километр! Девяносто пятый километр! — прокричали по городу голоса — разные, но с одинаковой интонацией.
Мануэль чувствовал, что вокруг него — живая жизнь, полнящаяся предвестиями, словно по ту сторону низких облаков, теперь недвижных, ибо пушки молчали, беззвучно подстерегают какие-то незрячие судьбы. Овчарка слушала, растянувшись, как на барельефе. Когда-нибудь наступит мир. И Мануэль станет другим человеком, человеком, которого сам еще не знает, подобно тому как молодой инженер, купивший малолитражку, чтобы кататься на лыжах в Сьерре, не знал нынешнего боевого командира.
И, наверное, то же самое происходит со всеми этими людьми, которые слоняются по улицам или упрямо выстукивают одним пальцем свои песенки под открытым небом и которые сражались вчера под намокшими остроконечными капюшонами. Раньше Мануэль познавал самого себя, размышляя о себе; теперь он размышлял о себе лишь тогда, когда случай отрывал его от действия и швырял ему в лицо его прошлое. И подобно Мануэлю, подобно всем этим людям, истерзанная Испания начинала наконец осознавать самое себя, словно человек, в миг смерти спрашивающий себя, кто же он. Войну открываешь для себя лишь единожды, но жизнь открываешь многократно.
Читать дальше