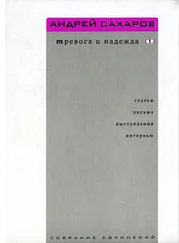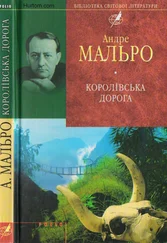— Мы на восемьдесят восьмом километре! — крикнул им нарочный.
В воздухе пахло победой.
На площади Бриуэги, перед командным пунктом (все офицеры, занимавшие ответственные должности, должны были явиться туда в течение утра) Гарсиа и Маньен слушали разглагольствования старого фанфарона с многодневной щетиной, в галстуке, повязанном пышным бантом; по всей видимости, он только что вылез из подвала.
— Когда они отважились выпустить нас на волю, они все привели в порядок, только оставили проволоку, на которой мы трусы развешивали. И гиды не знали, как же объяснить, зачем проволока. Только один придумал. Старый мой приятель, человек искусства…
Он провел ладонью вдоль головы, словно приглаживая длинные волосы.
— Он и акварели писал, и стихи, словом, человек искусства. И он говорил туристам, когда водил их по Алькасару там, в Толедо: «Дамы и господа, у Сида Кампеадора дел, естественно, было по горло; и вот, когда он, бывало, покончит со своими подвигами, и писаниями, и приказами, и походами, сразу отправляется в этот зал. Один-одинешенек. И тут, как вы думаете, что он делал, чтобы отдохнуть? Подпрыгнет, схватится за проволоку и — оп-ля — давай раскачиваться».
— Этот товарищ был гидом в Гвадалахарском дворце, а до этого — в Толедо, — объяснил Гарсиа Мануэлю и Маньену.
Рассказчик был старик с узкими бакенбардами, с мимикой и жестикуляцией прирожденного актера, из тех, для кого нет жизни вне игры.
— Я тоже любил все это, всякие занятные штуки, пока была жива моя первая жена… Служил в цирке, поездил по свету. Если где было на что посмотреть, я уж тут как тут. Но здесь вся эта древность…
Большим пальцем он ткнул в сторону Гвадалахары, откуда ветер под низкими облаками приносил запах бойни и куда шли итальянские военнопленные.
— Вся эта древность, все эти кардиналы, даже все эти картины Эль Греко и все эти штуковины, когда ты видишь их двадцать пять лет, и война, когда видишь ее полгода…
Он помахал рукою все в том же направлении — Гвадалахара, Мадрид, Толедо — равнодушно, словно отгоняя мух.
К Мануэлю подошел офицер, сказал ему что-то.
— Мы на девяностом километре! — крикнул Мануэль, звонко шлепнув по спине своего пса. — Они бросают всю матчасть!
— Хотите, сударь, скажу вам одну вещь? — снова начал гид.
Он пожал плечами и проговорил, словно подытоживая опыт всей своей жизни:
— Камни… Старые камни… И все. Если копнуть поглубже, еще ладно, хоть найдется что-то стоящее из времен древних римлян! Больше чем за тридцать лет до Рождества Христова. До — обратите внимание! Это уже нечто. В развалинах Сагунто есть величие. Хотя и новые кварталы в Барселоне — тоже нечто. А памятники? Как и война: одни камни…
Вместе с пленными итальянцами прошли несколько марокканцев.
— Вот вы, — сказал Гарсиа Маньену, — чем дольше сражаетесь, тем глубже проникаете в Испанию; я же, чем дольше работаю, тем больше отдаляюсь от нее.
Все нынешнее утро я допрашивал пленных марокканцев. Здесь их было немного, но все-таки были. Они всюду есть. Помните, Маньен, Варгас мне говорил: марокканцев всего двенадцать тысяч? Ладно. Здесь довольно много марокканцев из французских владений. В настоящее время ислам как таковой, ислам как духовная община почти полностью в руках у Муссолини. Французы и англичане еще держат в руках правящую верхушку Северной Африки, но итальянцы завладели верхушкой духовенства. И вот непосредственный результат: здесь, в Бриуэге, к нам в плен попали марокканцы и итальянцы. Волнения во французском Марокко. Пропаганда в Ливии, пропаганда в Палестине, Египте, обещание Франко вернуть исламу кордовскую мечеть…
Гарсиа любил поговорить: и всем остальным хотелось его слушать. Все газеты, которые они читали, проходили военную цензуру, а Гарсиа был информирован. Но ни Мануэль, ни Хименес не забывали про грузовики.
Гида позвала женщина, вышедшая из дверей дома, где он скрывался, пока город был занят итальянцами.
— Теперь, — сказал он Гарсиа, — мы ждем, когда за дело возьмется Асанья. Что он сделает? Великая загадка…
Воздев к небу указательный перст, он внезапно перешел от патетического тона к совершенно равнодушному:
— Ничего. Ничего он не сделает. И сделать ничего нельзя. Франко — горилла, это ясно. О нем нечего говорить, но кто там ни придет к власти, Асанья или Кабальеро, Всеобщий союз трудящихся, или Национальная конфедерация труда, или вы, теперь, когда я вылез из подвала, я буду обслуживать туристов и показывать достопримечательности идиотам — и так до конца своих дней…
Читать дальше