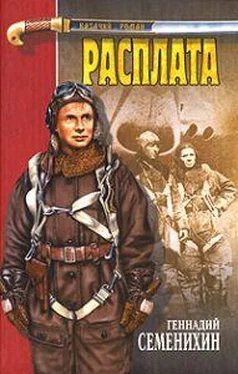Но с этим никто не согласился. Его продолжали нести до той самой поры, когда с трех сторон брызнули автоматные очереди. Командир разведгруппы старший лейтенант Кротов первым схватился за грудь. Под растопыренными пальцами его ладони на гимнастерке расплылось темное пятно. Жадно хватая ртом сырой весенний воздух, он сумел произнести последние слова: «Ребята, держитесь». А потом захрипел и открыл глаза, остекленевшие, ничего не способные больше видеть.
Короткие очереди «шмайссеров» все приближались и приближались с разных сторон. Окружая разведчиков и смыкая кольцо этого окружения, немцы уже стреляли из-за стволов ближайших деревьев.
Лена видела, как их темные, какие-то совсем нереальные тени, припадая к молочно-белым стволам берез, перебегали с места на место, все крупнее и крупнее вырастая в ее глазах. А рядом раздавались стоны и один за другим падали ее друзья. Она удивлялась, что ни одна пуля ее не берет. Только над головой, и то очень высоко, затрещала от пулеметной очереди кора на березе и кусочки ее, мокрые от сока, упали на Ленину голову. Но тотчас же выстрелы смолкли, и гортанный голос раздался совсем рядом:
— Метхен! Брать живой.
Грустно усмехнувшись, она пожалела о том, что в школе у своей учительницы всегда имела по немецкому лишь тройку. Сквозь березняк отчетливо просматривалось асфальтовое шоссе. На нем стоял бронетранспортер и два легковых «опель-адмирала». Небольшая группа людей в темно-зеленых френчах и брюках на выпуск стояла у автомашин. Сомнений у Лены не оставалось. Это были фашистские офицеры. Расстреляв все патроны из винтовки, она бросила ее, уже ненужную, себе под ноги в запыленных, аккуратно сидевших на них яловых сапожках. В комбинезоне оставалась одна лишь лимонка, холодная, миниатюрная, покрытая черепашьим панцирем. И Лена подумала, что в ней теперь ее единственное спасение.
Под сапогами преследователей трещал валежник. Немцы окружили её со всех сторон. Был среди них и русский парень в затрапезном черном помятом костюмчике.
— Ты-то чего здесь, ублюдок? — зло спросила Лена, и парень, отводя глаза, обронил:
— Переводчик. Силой заставили. Разве под дулом автомата свою волю им выкажешь.
— Волю? — горько усмехнулась Лена и словно обожглась этой усмешкой. — Да разве она у тебя когда-нибудь была?
Подошел долговязый офицер в фуражке с высокой тульей.
— Гутен таг, метхен, — осклабившись, проговорил он. — Ты есть храбрая девушка, и мы тебя расстрел не будем. На шоссе стоит «опель-адмирал». В нем, как это есть по-вашему? Оберст, полковник люфтваффе. Он хочет с тобой иметь беседа.
Лена молча наклонила голову, и они пошли. Девушка в центре, немцы справа и слева по четыре человека, впереди долговязый офицер. Ей все еще казалось нереальным происходящее. Будто смотрит она какую-то оперетту и никак не может дождаться занавеса. Сквозь редеющий березняк вышли они на взгорок, и, ступив на асфальт, она подумала, что это и есть автострада Москва — Минск, которую однажды она видела в киножурнале незадолго до начала войны.
Нарядный темно-синий «опель-адмирал» и грязно-зеленый бронетранспортер стояли поперек шоссе. Дверца на «опеле» была распахнута. С мягкого сиденья смотрел на приближающуюся пленницу вальяжно развалившийся в машине белокурый голубоглазый человек. По тому, как засуетились вокруг солдаты и подводивший ее офицер, она поняла, что это и есть полковник. Мундир с голубоватыми петлицами на нем был расстегнут так вольно и широко, что была видна нижняя накрахмаленная рубашка. Ноги его были словно влиты в хромовые сапоги. На мундире этого немца Лена увидела значок люфтваффе и два Железных креста.
— Господин оберст, — угодливо закричал русский парень, — девку-то какую вам привели!
— О да, — вываливаясь из «опель-адмирала», пробормотал полковник, и только теперь Лена заметила, что он предельно пьян. — Гутен таг, мейне либен фрау. Я люблю русских фрау, — рассмеялся он и, выйдя из машины, вдруг как-то сразу подтянулся, застегнул мундир на все пуговицы и картинно выбросил руку вперед: — Хайль руссише фрау! Дизе метхен ист мейн либен фюрер.
Долговязый офицер, немного говоривший по-русски, быстро к нему подскочил и что-то залопотал. Лене подумалось, он укоряет пьяного, осмелившегося назвать ее своим любимым фюрером. На какое-то мгновение полковник умолк и вдруг оборвал говорившего беспощадным выкриком:
— Кретин! Да-да, это я вам говорю, Цвангер. Вы порядочный провокатор. Еще одно слово, и я вас застрелю. Как вы только могли подумать, что я, один из любимцев рейхсмаршала Геринга, сбивший двадцать два вражеских самолета, из которых десять английских, семь польских и пять русских, смог променять любовь к своему фюреру на подол какой-то русской девки. Шутки надо понимать, Цвангер. Жаль, что в абвере не научили в свое время вас этому. Так вы далеко не продвинетесь по службе. А эта фрейлейн… пусть она… — Он икнул и на несколько мгновений опустил свой подбородок на грудь, потому что хмель делал свое дело. — Эта девка… Она мне чертовски нравится, Цвангер, Вы только взгляните. Какие глаза, какая нежная грудь, как сказал бы иной поэт… Словом, я гуманист. Пусть она одну ночь пробудет у меня, а потом идет к тому, кого сама выберет. Но она вас не выберет за вашу лошадиную челюсть. Мы, немцы, культурная нация. Это лишь большевики пишут, будто мы насилуем русских женщин и девушек. Подведите ее ко мне.
Читать дальше