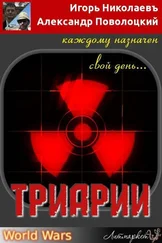Полюбил меня Ивашка-водовоз…
Автоматчики уже угомонились. Большинство сидело возле Буянова, который читал вслух только что принесенную газету. В газете сообщалось об успехах молодой народно-освободительной армии Греции, о боевых действиях в Югославии, о движении Сопротивления во Франции. Воины ловили каждую подробность не только в сводках Совинформбюро, но и в сообщениях из далеких закордонных земель, и все-таки по-настоящему настораживались лишь тогда, когда чтец переходил к положению внутри страны. Трудно сказать, чем это объяснялось. Может, тем, что мы почти беспрерывно находились в таких изнурительных боях, после которых нелегко было всколыхнуть чувства сообщением об успешных действиях английских патрулей. Люди устали от взрывов и выстрелов, устали слушать крики раненых и смотреть на истерзанные тела убитых; повседневно видели они, что за сутки боя потери в роте зачастую больше, нежели во всей Северной Африке. И практичный русский человек интуитивно давал этим далеким событиям свою оценку. Оценку, которая сильно расходилась с такими деликатными определениями, как «помощь» или «отвлечение сил». А может, тем, что своя сторонка — это дом человека, это его жена и дети. Воин душой живет надвое: наполовину на фронте, наполовину дома, в семье. Через атаки, дым и смерть идет он длинной дорогой к дому, и как же ему не вслушиваться, затаясь, как же не вздохнуть, вспомнив что-то близкое и родное, только ему одному и понятное. Вот и никнут люди, словно между ними что-то пролетело.
Автоматчики расположились возле Буянова кто как, сам же Буянов сидит на пне. Газету он держит далеко от глаз. Покончив с военными вопросами, он переходит к трудовым будням народа, при этом изредка вставляет слово-другое от себя. «В стране ширится массовое движение фронтовых бригад…» — Буянов крякает и добавляет:
— Все для фронта, значит.
Он продолжает читать о «двухсотниках» и «трехсотниках», о многостаночниках. В этих беглых заметках угадывается напряженная, нелегкая жизнь страны, и к суховатым газетным сообщениям невольно каждый присоединяет корявые и не всегда разборчивые, но близкие и дорогие строчки полученного письма. Каждый мысленно переносится домой… «Десятки и сотни тысяч советских женщин заменили ушедших на фронт мужей, отцов, сыновей. Женщины встали к станкам, они водят тракторы и…» — Буянов останавливается и комментирует:
— И дочка туда ж…
— Да… Запряглись бабы, — вторит Ступин.
Но тут уже молчанию конец. То неприкрыто сочувствуя, то грубовато, притворно посмеиваясь, мужчины вспоминают бабенок. И сколько горькой досады на разлуку, сколько скрытой тоски и глубокой веры в жизнь звучит в их голосах. Милые женщины, сколько невысказанного или необдуманно сказанного вам давит теперь этих мужественных и суровых людей! Стыдливо скрывая свои чувства, иной и вдали от дома, в час томительного отдыха, не снизойдет до милой женскому сердцу мягкости. А если нечаянно обмякнет, то тут же подсолит свое слово.
— Скучают солдатские женки… Эх, лапушки!
— Зато налог за бездетность отменен!
— Будь я дома, и так бы…
— Там без тебя мастера!
Негромкий, вымученный смешок не меняет задумчивых лиц, не затрагивает жестко сложенных губ и отчужденных невидимой далью глаз.
— Сквозная переквалификация, — гундосит бывший повар-инструктор, а теперь автоматчик Дворкин. — Нет бы своим делом…
— Евона, погляди-ко! Да ты же занимался их делом! Бабским…
— Тож попробуй! — обиделся Дворкин. — Потаскай у плиты…
— Верно, болезный… Что там сковородка супротив ПТР!
— Все ж таки…
— А ты в исподнице да в колпаке… наши ваших подвезут… пе-ре-ква-ли-фи-ка-ция… Снежная баба!
Объявили завтрак. Бойцы с котелками потянулись к кухне. От горячего, ароматного парка сладко подташнивает. До чего же вкусна разопревшая пшенная каша!
Но даже и за едой не умолкал разговор.
— Женка пишет, у нас в селе остался один мужик — дед Локшин. Ему бабы припечатали: МТС.
— Почему такое?
— Мо-жет толь-ко… — Буянов посмотрел на меня и закончил: — …до ветру ходить.
После завтрака кое-кто попробовал приткнуться под хвойными шатрами и вздремнуть. Да не получилось: мороз донимал. Один за другим сошлись все опять к Буянову, который и не покидал своего пня.
Зимний оголенный лес просвечивается насквозь. Серые стволы уходят в глубь чащи нескончаемым частоколом, на стволах нависают темные кроны, промерзшие сучья потрескивают и постукивают, струят иней. Сквозь решетки крон неприветливо проглядывают грязные клочья неба. Снег под деревьями серый, усыпанный обломками веток, корьем и мелкой трухой.
Читать дальше