Подкапывали лопатами пни, подрубали неподатливые корни топорами, а потом дубовыми дрючками выворачивали пни из дернистого грунта. Некоторые матерые пнищи, вцепившись разлапыми корнями в землю, не поддавались. Шульга в шутку назвал их медведями. Обматывали корни веревками, впрягали сразу три или четыре лошади и выволакивали «медведя» из берлоги…
Как-то раз во время перекура Шульга отвел Саньку в сторону, сел на выворотень. Спросил, свертывая цигарку:
— Кого из «музыкантов» запомнил в лицо? Кроме Рыжего…
— Бровастый еще был… Смуглый… А нос, как у коршуна, — горбатый…
— Егоровцы задержали одного. — Шульга стянул с ноги сапог, размотал портянку, ощупал натертую пятку. Всовывая руку в голенище, неожиданно добавил: — К нам везут его…
Санька понял, что Шульга ни на минуту не забывал о Рыжем, о его сообщниках и, видимо, принял какие-то меры. Комиссар каждый день отправлял куда-то своих посыльных. Они привозили ему пакеты. Прочитав их, он тут же рвал и бросал клочки бумаги в костер. А потом снимал очки и, близоруко щурясь, долго протирал их полой гимнастерки.
…Вечером в лагерь привели «баяниста», задержанного егоровцами. Его втолкнули в шалаш к Шульге, а через минуту туда по вызову комиссара бежал Санька. Он сразу узнал старого знакомого. Да, это был «музыкант» из группы «баянистов». Тот самый — с хищным носом. Опознанный Санькой, шпион перестал прикидываться невинным простоватым парнем и сообщил Шульге подробные приметы остальных «музыкантов», которых вместе с ним отправили за Друть.
…Трое суток партизаны хозвзвода работали на поляне — корчевали пни, заваливали землей ямы, трамбовали. Сюда Евсеич привозил им еду из лагеря. Тут они и ночевали в наскоро сделанных шалашиках.
Утром четвертого дня Шульга и Осокин верхом на конях проехали всю посадочную площадку вдоль и поперек. То и дело спешивались, и Осокин придирчиво осматривал места корчевки. В отряде его считали специалистом по аэродромным делам: до войны он работал сигнальщиком в аэропорту, а по вечерам учился в аэроклубе на пилота. Поэтому Шульга целиком доверился ему и, долго не раздумывая, назначил начальником этого партизанского аэродрома.
— Можно принимать самолеты, — авторитетно заявил Осокин, когда они с комиссаром закончили осмотр поляны.
Шульга приказал пилить деревья для сигнальных костров. Осокин по всем правилам распланировал костры: один из них ограничивал посадочную площадку, другие обозначали букву Т, указывая направление и место посадки. Партизаны валили сухостойные кряжи, волокли на поляну, выкладывая из них условный знак.
Работа на аэродроме закончилась. Шульга оставил там Осокина с отделением для круглосуточного дежурства, остальных увел в лагерь. Их ждала другая работа. Надо было загатить болото между лагерем и аэродромом, а потом в глубине леса рыть землянки. Тут самое безопасное место для санчасти. Немцы едва ли проникнут сюда: всюду заболоченная чаща.
Шли дни, а самолетов с Большой Земли не было. По ночам Шульга выходил из шалаша и долго прислушивался, поглядывая на звездное небо. С досады пощипывал раскустившуюся бородку: хорошая летная погода пропадала даром.
Хотя посадочная площадка была готова, Шульга ежедневно наведывался туда. Вырубали с Осокиным мелкий кустарник на поляне, разравнивали бугорки, выкатывали из пролежней замшелые камни-дикари, которые остались незамеченными во время раскорчевки.
Сначала Шульга и Саньку брал с собой на аэродром, потом отвел его к Евсеичу в помощники. Прежнего лагерного кашевара свалил с ног брюшняк, и Евсеич добровольно взял на себя нелегкое дело — кормить всех в лагере горячей пищей.
В первую очередь кашевар готовил еду для раненых и больных, а потом уже кормил всех подряд. Не хватало посуды, и варево булькало целый день в одних и тех же ведрах, подвешенных на таганах под елями.
Евсеичу помогали радистка и две медсестры, но вскоре медсестер Шульга отправил в отряд. Кашевар потребовал новых помощников. Тут комиссар и вспомнил про Саньку. Во-первых, кашевару будет подмога — парнишка расторопный, во-вторых, каждый шаг у Евсеича на глазах…
Целое утро Санька носил воду из колодца. Большое ведро качало его из стороны в сторону, задевало за кусты, и вода выплескивалась из него на ноги. Евсеич добродушно ворчал, орудуя самодельным половником:
— Сказывал, набирай половину. Надорвешь пуп…
Санька выльет воду в кадушку, что стоит недалеко от огня, спешит опять к колодцу. Кадушка большая, и Санька долго мнет босыми пятками вереск в кустах между колодцем и кухней. Носит воду, а сам все думает о Рыжем. Неужели его не поймают?
Читать дальше
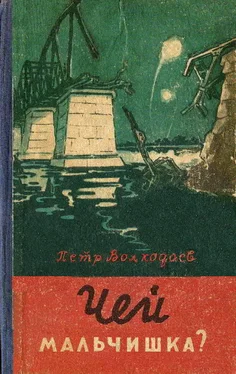




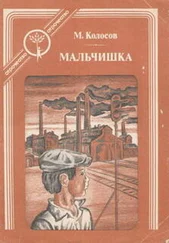


![Кристина Генри - Потерянный мальчишка [Подлинная история капитана Крюка] [litres]](/books/408675/kristina-genri-poteryannyj-malchishka-podlinnaya-ist-thumb.webp)
