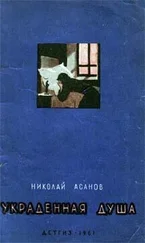Так они поднялись в гору. Настя села на передок телеги, оглянулась, удобно ли пассажиру, подвинула к нему мешок с сеном, чтобы было на что опереться, и понукнула лошадь. Лицо ее стало словно каменным, все черты обострились, на лбу образовались поперечные складки.
Письмо она так и не стала читать. Тягостной была эта дорога, хотя в лесу пели птицы, светило солнце, на вырубках пахло ягодой и грибами, а там, где начинались поля редких деревень, сочно шумела рожь и пшеница, радуя глаз. Только радость была мимолетной и для него и для Насти, она не трогала сердца. И все острее хотелось Михаилу сойти незаметно с подводы, укрыться в лесу, переждать, пока скроется согнутая спина Насти, чалая ее лошадка, дребезжащая телега, а потом повернуть обратно и ковылять к пароходу, чтобы увез он его с его горем-злосчастьем подальше от этого чужого горя. Вечерело, когда показалась вдали деревня, запахло теплым избяным и хлебным духом, послышалось блеяние овец, мычание коров. Первая подвода приостановилась на взгорке, поджидая их. Соловаров спрыгнул с телеги, помог сойти Михаилу, тихо сказал:
— Благодари хозяйку. Ей одной легче будет. Не на людях же горе горевать. Завтра все ей расскажешь…
Настя словно не слышала их короткого разговора. Старичок, отец Насти, стоял поодаль, осунувшийся, постаревший. Но когда Михаил запрыгал на костылях мимо него, сказал спокойным голосом:
— Спасибо, служба, за вести. Не ты в том виною, что вести печальные…
Широко распахнулась калитка в резных воротах, загрохотали двери дома, раздался женский крик, потом выбежали пожилая женщина и две дочери Тимофея, повисли на его морщинистой шее, не замечая Михаила, а он стоял и думал о том, как несправедлива к нему судьба. Никому не принес он радости тем, что остался жив, только сожаление видит он в равнодушных глазах посторонних люден. Нужно ли было ехать в эти глухие места, надо ли было искать чужой радости, когда нет своей?
Тимофей что-то шепнул жене, она оторвалась от него, подошла к Михаилу, протягивая широкую твердую руку, сказала:
— Милости просим в дом, будьте ласковы…
Девушки-погодки, одна лет шестнадцати, другая — семнадцати, подражая матери, протянули руки Михаилу, сказали похожими певучими голосами:
— Входите в дом за брата, за родича, пусть жизнь вам будет легкой, крыша теплой, еда сытой… — и поклонились низко-низко, как, должно быть, велел уральский обычай.
У Михаила защипало в горле, он склонил голову, пряча глаза, с усилием налег на костыли и прошел в ворота. Перед ним был высокий дом, венцов на восемнадцать, с непривычно высокими окнами, на уровне второго этажа, крутая лесенка вверх, откуда пахнуло давно забытым теплом домашнего очага, запахом сена, хлева и парного молока. Он вошел в дом первым и вдруг опустился на лавку у порога, ослабев от усталости или от того, что застлало глаза туманом, от чего задрожали руки и ноги, — от ощущения родного дома. Но в следующее мгновение он оторвался от лавки и снова встал, глядя исподлобья на жену Тимофея, на него самого, — все-таки дом этот был чужим.
Итак, все здесь было чужое, начиная от неярких луговых цветов над рекою, что были видны из горницы, кончая неразговорчивыми, как будто хмурыми людьми, что окружали его.
Никто не беспокоил Михаила, не напоминал ему, что он только гость, и, наоборот, не упрекал его в том, что он живет, как гость, не принимая участия в жизни большой деревни, что раскинулась за окнами дома. Правление колхоза выписало на него продукты, каждый день доярка с молочной фермы приносила литр молока, хотя жена Тимофея и отказывалась принимать его. Целые дни дом был пуст, вся семья Тимофея и сам он уходили на поля, где началось жнитво, страдные дни. В пустом доме неумолчно жужжали мухи, иной раз в открытое окно залетала пчела или оса, досаждая особенно громким звуком, напоминавшим гудение снаряда. Вечером семья сходилась в дом, к столу, за которым для Михаила было отведено место в красном углу, рядом с Тимофеем. Если Михаил притворялся спящим, его будили, без него за стол не садились. Утром же ему оставляли завтрак на столе, прикрытый рушником с вышивками, совсем такими же, какие делала на рушниках мать Михаила. В обед приходили или жена Тимофея, или одна из дочерей, приходили словно бы по домашнему делу, но Михаил видел, что домашнее дело было предлогом, просто приходили накормить его, услужить за столом. И никто ни слова не говорил о том, что пора ему перестать чувствовать себя гостем, пора начать трудиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу