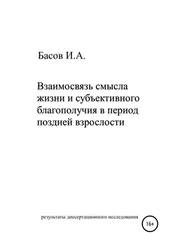Конечно, каждый по-своему переносил тяжести, страдал, мучился от холода, недоедания и бесконечных маршей во время карательных операций врага, думал о судьбе Севастополя, о своей судьбе, о далеких родных, по ком так тосковали наши сердца. Но я не ошибусь, если скажу, что вера — большая вера в победу — всегда была с нами.
Постепенно молва о беде дошла до всех, всем стало ясно, что героический рейс Филиппа Филипповича ничего не меняет в нашей жизни — как и прежде с Севастополем связи нет. Но не могли мы с этим согласиться, ибо не могли без связи существовать.
Филипп Филиппович, не пряча своего страшного огорчения, все же с какой-то немыслимой надеждой осматривал разбитую машину. Подошел и я, когда-то служивший в войсках ВВС и кое-что понимающий в летном деле.
С мотором все в порядке, бензин есть, но была одна непоправимая беда: при посадке вдребезги разлетелся пропеллер. А без него не взлетишь.
К самолету подходит начштаба, в его глазах что-то обнадеживающее.
— Что, Алексей Петрович? — тороплю я.
— Мне докладывали, что недалеко от переднего края фронта на немецкой стороне упал самолет такого же типа, как этот. Он рухнул, как говорили мне, на густой кизильник. Винт должен быть целым.
— Где это? — с мальчишеской сноровкой бросился к нему молодой летчик.
— Выясним.
Щетинин ушел и через минуту подвел к нам партизана Пономаренко.
— Повтори, что ты мне сказал только что.
— Есть! Самолет лежит за Чайным домиком, пропеллер как штык торчит.
— Дорогу найдешь, сержант?
Я прикидываю: далековато в те края, ох как далековато! Конечно, харчишки соберем, да вот дойдут ли ребята. Больно подбиты все. Чтобы пройти за минимальный срок туда и обратно сто двадцать километров, да по яйле, на которой снег рыхлый; а тут груз — не подушку нести, нужны силенки надежные.
Комиссар Захар Амелинов подумал, сказал:
— А ежели наших женщин, а?
— Женщин? — Я с удивлением посмотрел ему в глаза.
— Подумай.
Да, надо честно признаться: во всех наших испытаниях женская часть отрядов оказывалась повыносливее нашего брата. В этом не единожды я убеждался. На иную глядеть страшно: одни глаза да худющие ноги, а идет, да еще на плечах бог знает какую ношу тащит: санитарная сумка, оружие, гранаты. На привалах мы в лежку, а они тому сделают перевязку, другого кизиловым настоем напоят, а третьему доброе утешительное слово скажут.
Итак, женщины! Узнала об этом Дуся, прибежала первой:
— Да я одна винт допру.
Македонский остановил ее.
— Не лезь, у тебя свое, поняла? — сказал строго.
— Поняла, командир, — чуть не плача сказала Дуся и ушла.
Наш выбор пал на седовласую учительницу из Симферополя Анну Михайловну Василькову; на молчаливую, но крепкую и выносливую медицинскую сестру Евдокию Ширшову; да на тихую дивчину, что с утра до вечера собирала в лесу липовые почки для партизанского кондёра, а ночами безропотно выстаивала на постах, Анну Наумову. Проводником, само собой разумеется, сержанта Пономаренко.
А вот кто будет старшим, кто тот человек, авторитет которого безупречен?
Ко мне подошел бывший политрук алупкинской боевой группы, начисто разбитой еще в декабрьских боях, Александр Поздняков.
— Посылай меня, командир.
— Может, тебя не хватит, может, это не твое дело, Александр Васильевич?
— Мое, и главное.
— Тогда идите и принесите винт.
— Принесем.
Дни ожидания… Филипп Филиппович и помощники — их нашлось немало — чинили самолет, готовили взлетную площадку. Партизаны, уверенные, что машина обязательно поднимется, писали родным письма.
Они вернулись на пятые сутки, принесли пропеллер. Но без Александра Васильевича…
Дядя Саша, Александр Васильевич! Встретил я вас еще до войны, когда работал в Гурзуфе старшим механиком совхоза. Наши механические мастерские стояли рядом со знаменитой дачей князей Раевских. Хорошо сохранен был скромный особняк, в котором Раевские принимали Александра Сергеевича Пушкина.
Мне почему-то не верилось, что кипарис — стройный, высокий красавец, поднявшийся к небу, — и есть тот пушкинский, воспетый самим поэтом. Кто и как это докажет? Я в те времена был слишком молод и очень любил всякие доказательства.
Человек в роговых очках, с округлыми чертами интеллигентного лица, был директором пушкинского музея, часто проходил мимо мастерских и всегда вежливо с нами раскланивался.
Как-то я заговорил с ним. Он легко меня убедил, что кипарис тот самый, заметив, между прочим, что это хорошо, когда человек любит ясность, но еще лучше, если он ищет ее. «Вот ты сосед, — сказал он мне, — а ни разу в музее не побывал».
Читать дальше