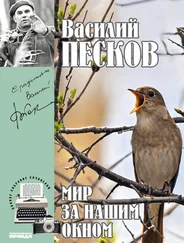Самолёты пролетели – мы опять к дороге. А что делать, идти-то надо от тех нелюдей, что по мирной толпе из пулемётов да бомбами. Что ж они тогда за нашими спинами делают? Оставляют ли кого в живых? Пошли дальше. Всё по сторонам смотрели. Как увидим издалека, что самолёт летит, сразу бежать от дороги. Пешим хорошо: отбежим, попадаем в кустах-канавах друг на друга, нас среди деревьев и не видно. А вот тем, кто на телегах ехал, выбирать пришлось. Кто-то коня выпряг, телегу с барахлом бросил и пешком пошёл. Жизнь дороже.
Несколько дней так шли. У матери еда кончилась, мы с Вовкой плачем, устали, страшно нам. Добрели до какой-то деревни, присели у колодца. Вышла женщина, привела нас в свой дом, накормила, да и с собой дала.
Я мало что с этой дороги помню. Помню, ноги очень болели и жарко было. И спрашивала у мамы, далеко ли ещё, а она молчала. Сейчас жалею, что позже не расспросила её про эту дорогу. А сейчас поздно: мама умерла, рассказать некому.
Помню, сидим мы где-то в лесу на большой поляне, а рядом с матерью стоит высокий мужчина в черной шапке и сапогах. Он варит что-то на костре в ведре. Наливает нам с братом по очереди в жестяную миску. Миска жжёт руки, обжигает губы, язык, но мы пьём это ароматное варево, потому что очень кушать хочется.
Пришла женщина с ближайшего хутора. Забрала нас. Привел домой, усадила за стол. Достала из подпола холодное топлёное молоко, масло в «гладыше» (стеклянная банка). Кормила нас, переночевать разрешила. Сколько лет прошло, а я помню запах этого топлёного молока. И как Вовка масло ел прямо руками, без хлеба. Давился, но ел. А хуторянка смотрела на него и ничего не говорила, хотя он чавкал и руки о штаны вытирал.
Как же я благодарна всем этим людям. Я не знаю их имён, не помню названий деревень. Но они были свои, родные. Не давали нам пропасть.
Ещё помню, остановились у какого-то старика. Он маме сказал:
– Дети твои совсем слабые, еды у вас нет. Не дойдут, не выживут. И мне дать нечего. Ты сходи за околицу, там войска наши, когда отступали, зерно сожгли. Ты набери остатки в мешочек, хоть что-то будет.
Мать так и сделала. Собрала эти зернышки с угольками и землёй вперемешку. Они кое-как просеяли, отсыпали в мешочек. Мать жевала эти зерна, заворачивала в тряпицу и давала нам на ходу сосать эту соску. Так и шли.
В лесу наткнулись на партизан. Я сейчас думаю, что это ещё не совсем партизаны были. Какая-то часть красноармейская, что из окружения выбраться не смогла и решила в лесах остаться. Они потом стали партизанским отрядом. На поляне – целый табор. Семьи беженцев, красноармейцы с оружием. Шум, тесно. Спали вповалку прямо на земле, ели, что придётся. О том, чтоб помыться где-то, даже не думали.
Военные соберутся тихонько, сходят на разведку. Потом сидят, молчат. А нам и спрашивать страшно. Понятно, что всё плохо.
До осени с ними жили, кое-как перебивались.
А осенью нас командир отряда собрал и говорит:
– Вот что, бабоньки. Зима на носу. Жить негде, есть нечего. Ещё и вы на мою шею. Что я с вами в морозы делать буду? Короче, у кого родственники в деревнях есть или дома целы, идите-ка вы домой. Иначе не переживём мы зиму с этим детским садом.
Что нам оставалось делать? Пошли мы с мамой обратно в Глуск. А вокруг уже немцы. Кругом мотоциклисты, машины ревут, колонны по дорогам пылят. Мама красивая была, немцы гоготали ей вслед, свистели. Мама каждый раз от страха замирала, стискивала мою руку. Но уберёг нас Бог, дошли.
Дом, в котором мы жили, раньше местному помещику принадлежал. Целых пять комнат, высокие потолки. Чудо какое-то, что немцы его не заняли. Их много было в Глуске, хозяйничали, выкидывали хозяев на улицу, выселяли в курятники и сараи, сами занимали дома. Наш дом им почему-то не приглянулся.
Жили мы, как мыши под веником. Лишний раз на улицу выйти боялись, по комнатам на цыпочках ходили.
Как-то утром стучит к нам в окно полицай, говорит, чтоб завтра в полдень все были в центре, на площади. Кто не придёт – того накажут.
Пришлось идти. Даже младшего брата взяли, не оставишь же его одного в доме. На площади уже полно народа. Немцы стоят цепью, теснят нас от самого центра в переулки. Прямо на земле стоит трибуна, на трибуне – офицер. Мы стоим, тесно, душно, того и гляди затопчут. Офицер посмотрел на нас с презрением и начал речь. Говорил по-немецки, но рядом полицай стоял, переводил. Что-то там про освобождение нас от коммунистов, о том, чтоб не помогали партизанам. Долго говорил, неторопливо. Мы стоим, пошевелиться боимся, потому что прямо в лица смотрят дула карабинов. И немцы смотрят поверх голов равнодушными пустыми взглядами.
Читать дальше