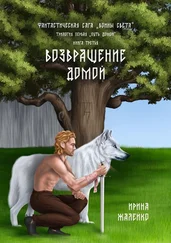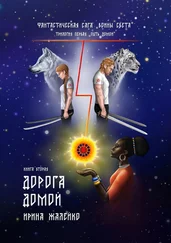Умер он необычно. Его сын Григорий ушел на Первую мировую войну, ее тогда называли Германской. Вестей от него не получали, время тогда было смутное. Как-то дед сказал: «Умру тогда, когда увижу Гришку». Так и произошло.
После подписания Брест-Литовского мирного договора между представителями Советской России с одной стороны и центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства) с другой, его сын Григорий осенью 1918 года, хоть и израненный, но всё же вернулся в родной дом.
Отец лежал на кровати, над ней мерцала лампадка. Григорий и его брат Михаил, тоже фронтовик, но вернувшийся домой раньше, подошли к старику. Он был неподвижен, однако говорить мог. Григорий, наклонившись крепко прижался к отцу:
– Бать, я уже дома, поживем… мы тебя еще подымем на ноги, – сглотнув, выдавил он.
Отец немигающими глазами долго смотрел на сына, его лицо сияло спокойной радостью. Он улыбнулся одними глазами и отчетливо произнес:
– Ну всё, сыночки, мечта моя сбылась, увидел я Гришку живым и здоровым, теперь пришло время помирать. – На этих словах он прикрыл глаза, окунувшись в спокойный сон. Утром его нашли в постели мертвым.
В те времена, после большевистской революции, и в условиях страшной гражданской войны жилось особенно тяжело. Народ голодал, голодали даже некогда зажиточные донские казаки, целые станицы превращались в безлюдные и страшные места, наполненные горем, слезами и проклятьем. Немногие казаки приняли красную пропаганду, поэтому-то и подались в Белую армию воевать за свободную от краснопузых Россию.
Их жены и дети влачили жалкое существование, поскольку жить было не на что, продуктов не хватало. Введенная в начале января 1919 года советской властью продразвёрстка не оставляла шансов на выживание. Многие, чтобы прокормить свои семьи, загружали узлы нажитым скарбом и шли на шахты, так называли Донбасс, менять всё это добро на продукты.
В начале двадцатых годов положение большевиков укрепилось, возможностей вернуть Россию в монархию у белогвардейцев становилось всё меньше и меньше. Казачки оплакивали своих мужей, погибших на полях сражений. Те, кто не получил весточки о смерти супругов, уже давно не надеялись на их возращение, хотя бы потому, что тут их ждала еще более лютая смерть, чем на поле брани.
Так и свела судьба Антонину, вдовую казачку с младенцем- девочкой на руках с Григорием, сыном бондаря. Он, в силу жизненных обстоятельств подался в шахтеры, потому как там платили и жить было можно.
Антонина – не коренная казачка, она азербайджанка и родом из Нахичевани. После русско-турецкой войны и подписанного в 1828 году Туркманчайского договора персидский шах уступил территорию Азербайджана России. Российская империя создала комендантскую систему управления. Бывшие ханства и султанаты преобразовали в округи и провинции.
Её мать, испытывая крайнюю нужду и в поисках лучшей жизни, в 1900 году с грудным ребенком на руках, перебралась в Россию. Она была наслышана, что в Ростове-на-Дону есть целое поселение, где царь наделил армян и прочие народности правами, называлось оно Нахичевань. Люди говорили, что вновь прибывших даже от налогов освобождают. Русский язык она с трудом, но знала, и этих знаний хватило, чтобы добраться до места. Дорога оказалась трудной и долгой, но желание изменить свою жизнь было сильнее трудностей.
На поверку всё оказалось так, да не так. Нахичевань на Дону действительно был, он основан еще в далёком 1779 году. Однако трагедия состояла в том, что основали его армяне, выходцы с Крымского полуострова. Молодая мать, попавшая в среду, где царила историческая вражда между армянами и азербайджанцами, испила полную чашу унижений и нужды. Не находилось места этой женщине на земле, она пришла в отчаяние и готовилась уже уйти из жизни по доброй воле, но маленькая дочурка стала тем якорем, который не давал ей окончательно сорваться в бездну.
Работы не было, зато голод оставался постоянным спутником; дочка подрастала, ей требовалось не только внимание, но и качественное питание, одежда. А у бедной матери в избытке имелись разве что только слёзы. Однажды, бредя по одной из ростовских улочек, женщина наткнулась на красивый дом, обнесенный металлическим забором. Это было государственное учреждение. Мать подошла ближе и, слегка напрягаясь, беззвучно шевеля губами, прочитала вывеску. Та гласила, что этот дом не простой, а приют для малолетних сирот, созданный по воле российской царицы, она же и покровительствовала ему.
Читать дальше
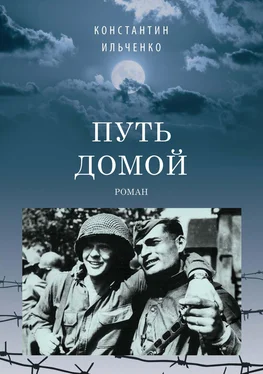

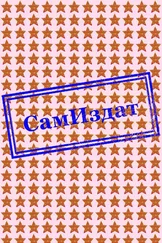
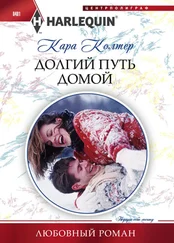
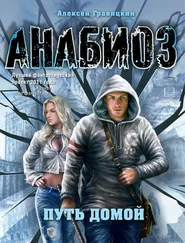


![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/340873/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo-thumb.webp)