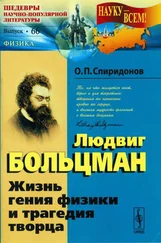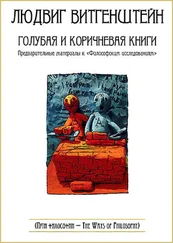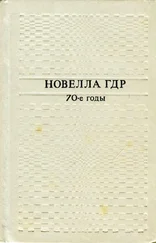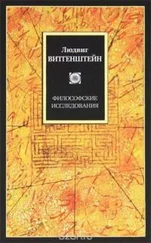— Одному, оторвало обе ноги да еще всего залило супом. Я кое-как — никто не помог — взвалил его на повозку. Не знал, где за него ухватиться, — он стонал от боли.
Они говорили, перебивая друг друга. Функе все повторял:
— Да, только Израель и понимает, что такое товарищество.
Когда мы поели, разговор пошел спокойнее. Но Израель все еще был необычно взволнован и расстроен.
— Если со мной что случится… мне никто не придет на помощь, — сказал он.
— Я помогу тебе, — сказал Функе.
— Не поможешь! Это был мой последний вечер! Мне уже больше никто не поможет!
— Ты будешь жить долго, — сказал Функе. — Господь не оставит хорошего человека!
— Эх! Я знаю — это был мой последний вечер! А до чего ж не хочется умирать!
Хоть бы они не заметили, что меня повысили в звании. Я не знал почему, но одна мысль об этом меня ужасала. Я потянул Хартенштейна за рукав к лестнице.
Снаружи было светло. На березе пел черный дрозд, неподалеку от него — зяблик. Хартенштейн крошил хлеб.
— Не говори им, что меня повысили.
— Почему?
— Пожалуйста, не говори! Мне это не по душе!
Помолчав, он сказал:
— Верно, там, у кухни, творилось что-то ужасное! Израель не из пугливых, а он сам не свой.
Я посмотрел на Белую гору, где на удивление было тихо. И необычайно красиво.
— Где-то что-то цветет, — сказал Хартенштейн. — Чуешь, какой запах?
Перед нами были голые известковые комья и истерзанная береза. Она распустила было почки и пожухла. Но аромат какого-то цветения и вправду долетал сюда.
Мы легли спать. Израель уже спал. Только Функе сидел, погруженный в себя, и курил сигару.
— Приказ из батальона! Всем по местам! Французы готовятся к атаке! — крикнули сверху.
Мы схватили противогазы, ружья, каски и выскочили из блиндажа. В одно мгновение все орудийные площадки были заняты. Пулеметы приготовлены.
Светило солнце. Было тихо. И только слабо погромыхивало где-то далеко-далеко. И нигде никакого движения. Я послал Функе к Ламму доложить, что мы готовы, но все спокойно, и каких-либо признаков наступления не наблюдается. Между тем я дал распоряжение всем припасть к земле, чтобы с Белой горы не увидели у нас большого скопления людей и не открыли артиллерийского огня.
Ничто не нарушало тишины. Прибежал Функе; он бежал что было мочи:
— Израель убит!
— Как! Где? Разве стреляли?
— Лежит в лесу на крутом склоне!
— Что сказал господин лейтенант?
— Снова уйти в блиндажи.
Я дал команду разойтись, а сам побежал к крутому склону. Я увидел его издали: он лежал, распластавшись на спине, под сосной. Я склонился к нему. В руках у него была ротная книга приказов, которую он хотел отнести Ламму. Я ему этого распоряжения не давал. На лбу у него было немного крови, а на мундире — брызги мозга.
Я взял книгу приказов и понес ее Ламму.
— Эта тревога — нечто непостижимое, — возмущался он. — Я написал в батальон резкое донесение о том, что нам здесь, на передовой, лучше знать, чем им там, — готовится наступление или нет!.. К утру нас сменит шестая рота. А кухня встретит на полпути к биваку.
Я пошел назад — снова мимо Израеля — в блиндаж. Функе жевал огрызок сигары и оплакивал Израеля:
— Это был лучший из людей, каких я знал. И как он предчувствовал свою смерть! Такое бывает только у хороших людей.
Хартенштейн сидел, склонившись долу, и что-то чертил пальцем на земле… а что ему там было чертить! Я лег на свои нары и горько заплакал.
XIV
Вечером мы похоронили Израеля на крутом склоне, где он был убит; место здесь было красивое. И решили, что в тылу мы поставим ему крест с его именем и датой смерти.
К утру пришла шестая рота.
Я тотчас же отослал своих людей, чтобы они еще до рассвета ушли из опасной зоны, и оставил при себе только Функе.
Меня сменил энергичный младший фельдфебель. Я сказал ему, что нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не вызвать на себя артиллерийский огонь.
— А-а, пустяки! — воскликнул он. — Мы не боимся!
Когда мы собрались уходить, уже стало светать. Мы пошли по крутому склону и спустились в окоп, который вел через лес к большой поляне. Она вся зеленела. Было так странно, что она не белая, известковая, а зеленая.
Сильно таяло. Мы подошли к руинам селения. Хотелось пить, и мы зашли во двор какого-то разрушенного хутора. Стены дома были окрашены в розовый цвет, у колодца цвела сирень. Первый луч солнца вспыхнул на горизонте. Прозрачная вода поблескивала в ковше. Мне показалось, что я вижу такое впервые в жизни.
Читать дальше