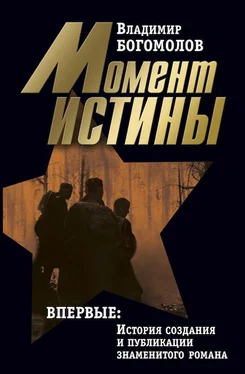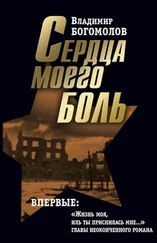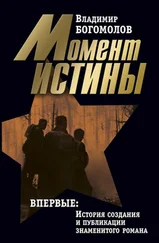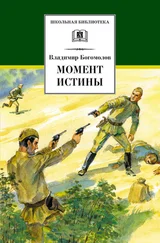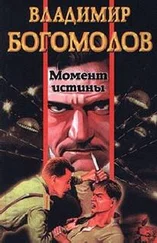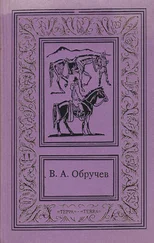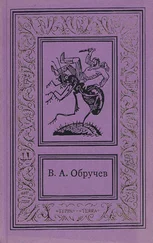Он неоднократно повторял: «Трагедия жизни человека и причина его страданий — несоответствие желаний и возможностей. Человек — это дробь, у которой числитель — достоинство, а знаменатель — его мнение о себе. Большинство людей в жизни довольны собой и недовольны своим положением и оценкой их в обществе. Я же недоволен только собой и вполне доволен своим положением в обществе — никому не служить и не прислуживать, ни от кого не зависеть, сведя до минимума контакты с госструктурами (кроме домоуправления). Меня абсолютно не волнуют внешние атрибуты успешности».
Надеюсь, читатель, почерпнув информацию из дневников, рабочих тетрадей и записных книжек В.О. Богомолова, которые впервые представлены как в данном томе «Момент истины», так и во втором — «Сердца моего боль» — настоящего издания, сам найдет ответы на многие из вышеприведенных вопросов и сможет сделать свой вывод — в чем же заключаются загадки творчества писателя В. Богомолова.
Полагаю, что настоящая публикация будет неполной, если, хотя бы вкратце, не коснуться и другой стороны жизни романа — неоднократно предпринимаемых попыток найти художественный эквивалент этому блестящему, многоплановому, сложному литературному произведению в театре, на эстраде, в кино, — и отношения к этому самого автора.
Естественно, динамичность, драматизм романа и его яркие герои не могли не вдохновить многих театральных режиссеров на создание сценических версий этого произведения.
В архиве В.О. Богомолова сохранились обращения многих режиссеров с просьбой разрешить им театральную постановку. К ним приложены — абсолютно идентичные — ответы автора:
«Я отношусь сугубо отрицательно к любым попыткам сценической инсценировки романа «В августе сорок четвертого...» (о чем неоднократно сообщал и театрам и Министерствам культуры), и потому ничем не могу быть Вам полезен. Находясь в этом убеждении, считаю нецелесообразным знакомиться с присланным Вами вариантом».
Столь же категорически отрицательно относился Владимир Осипович и к эстрадным композициям: он называл это «делать шарж» на роман. В письменных ответах актерам-чтецам — И. Домбеку (Ленконцерт), И.Д. Золотареву (Воронеж), Б. Чулимову (Запорожье) и другим В.О. Богомолов сообщает: «Вместить содержание романа, его образы и сюжетные линии в один, два или даже три сценических вечера невозможно. Что же Вами берется для композиции? Куски детективного характера — поэтому я принципиально против всякого рода композиций».
Только в 1995 г. — к 50-летию Победы — режиссер Леонид Хейфец, к тому времени почти полтора десятка лет возглавлявший Центральный Театр Российской Армии, осуществил постановку на Радио-1 «Останкино» семисерийного радиоспектакля «Момент истины».
Не раз роман предлагали экранизировать. Но каждый раз Владимира Осиповича одолевали большие сомнения: он отдавал себе отчет в том, что, как бы талантлив ни был режиссер, фильм будет снят «по мотивам» романа и посему будет нести в себе элемент вторичности (в чем его убеждало «Иваново детство» А. Тарковского).
Владимир Осипович был убежден: работа по киноинсценировке должна вестись так, чтобы кинопроизведение приближало литературное произведение к читателю, а не заменяло его. Как пример он вспоминал экранизацию «Чапаева»: «Кто из миллионов читателей знает (читал) глубокий блестящий роман Д.А. Фурманова «Чапаев», написанный в 1923 году? В сознании зрителей навеки запечатлен созданный режиссерами братьями Васильевыми облик «лихого Чапая», исполненный талантливым актером Б. Бабочкиным. Из фильма, снятого в 1934 г. в духе соцреализма, ушла вся драма и глубина романа. В фильме односторонне отражено главное: время, трагедия гражданской войны и судеб сотен миллионов людей, вовлеченных в мясорубку исторического перелома России».
О трудностях, с которыми столкнется режиссер при переложении романа В. Богомолова на язык кино, дальновидно предупреждал Г. Товстоногов — главный режиссер Ленинградского Большого Драматического театра им. А.М. Горького — в интервью «Люблю кино медленное» (Советский экран. 1975. № 12). На вопрос журналистки: «Какие новинки советской литературы, по Вашему мнению, заслуживают внимания?», — Г. Товстоногов ответил: «В первую очередь роман Богомолова «В августе сорок четвертого...».
— Какие опасности при этом могут подстерегать создателей фильма?
— Опаснее всего — перевести это художественное произведение в жанр детектива. В фильме должна остаться психологическая подробность всего происходящего, деталь, необходимая для полнокровного образа, характера. Сопряжение частного и общего, масштаб, глобальность происходящих событий и локальность самого действа. Зрители должны ощущать беспрерывность сопоставления одной человеческой судьбы и судьбы фронта. И «вверху» и «внизу» события не должны быть простым фоном для главных героев. Это та социальная среда, в которой три — только три! — человека и режиссер их действий — Поляков -делают свое локальное, конкретное дело, от которого со всей очевидностью зависит судьба огромного мира вокруг них — фронта, десятков тысяч людей... Если такого сопоставления не будет, все выльется в банальный детектив «поймают — не поймают».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу