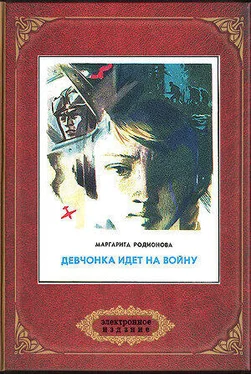— Гуманность, — злобно повторил Лапшанский.
Я вышла. У входа в дом, прижавшись к стене и уткнув лицо в руки, стоял Васька. Плечи его тряслись в неудержимом плаче. Я обняла его.
— Вася, не плачь, пожалуйста.
Из дома вышел капитан, непривычно строгим голосом закричал на Ваську:
— А ну, прекратить истерику! Немедленно возьми себя в руки и — в бой! Вперед, за мной!
Мы устремились через парадный подъезд на другую улицу. Капитан побежал вперед, увлекая нас за собой. Но в это время из окоп дома, стоящего в стороне, застрочил пулемет. Мы вернулись в подъезд, а капитан с Васькой прыгнули в глубокую воронку.
Иван схватил пулемет, поднялся на второй этаж и поставил его на окно.
— Смотри, откуда бьет. Я не видел, — сказал он мне.
Я выглянула и увидела, что капитан снял с себя шапку, одел ее на автомат и приподнял над воронкой. Тотчас снова на дороге запрыгали пули. Шапка упала.
— Второе окно от угла, — сказала я.
Стиснув от напряжения зубы, Иван наводил пулемет на цель. Капитан увидал это и, чтобы помочь Ивану, снова поднял шапку. Тут же раздалась очередь.
В ответ оглушительно затрещал пулемет Ивана, и одновременно со стороны наших ударила пушка. Огромная вспышка взметнулась там, где сидел вражеский пулеметчик.
Из воронки выглянул Васька. Пулемет молчал. Мы выбежали из дома.
Я добежала до воронки… и вдруг увидела, что земля мчится прямо на меня, встает на дыбы и закрывает мне путь. Я еще старалась бежать, но она стеной встала перед моим лицом, и я щекой ощутила ее холодок.
Откуда-то появилась тетка Милосердия и положила мне на глаза горячие руки. Сразу стало темно, но я слышала, как лавиной бегут мимо меня моряки, и кричат что-то зло и весело, и стреляют, стреляют.
Они мчались словно ветер, свежий и сильный. Этот громовой вихрь пронесся и стал затихать вдали, там, где кипел яростный бой и где бились с врагом мои товарищи. Мои славные верные товарищи.
Я хотела протянуть руки тетке Милосердии, но они будто приросли к земле, а тетка стала таять, как большое светлое облако. И только ветер свистел, и гремел, и бил могучей волной о борт разбитого корабля.
Какой сильный ветер! Капли датского… короля…
Какой большой…
ве…
ветер…
Я одна в глухой темноте, окутавшей меня. Я тону, и никто не дает мне руки. Я захлебываюсь. В короткие перерывы, когда могу вздохнуть, я понимаю, что это бред, но никак не могу избавиться от него.
Однажды ночью открыла глаза и увидела двух сестер, сидящих возле меня при слабом свете коптилки. Я обрадовалась им, как родным, и хотела сказать, что я жива, вот я! Но в это время вдруг из далекого забытого далека пришла и вошла в меня женщина, умиравшая на «Весте» и перед смертью звавшая Улю. Она умерла, потому что не дозвалась Улю. Если я тоже не дозовусь, то тоже умру. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать!
Я! Не хочу! Умирать!
— Уля! — зову я. — Уля! Уля!
Сквозь плотный туман, снова окруживший меня, пробивается жалостный женский голос:
— Улю какую-то зовет.
— Слава богу, хоть бредить начала, — звучит издалека второй голос.
Как крикнуть им через этот туман, что бред прошел, что я не брежу, что надо обязательно дозваться Улю. Но она не идет.
— Уля! Уля! Уля!
Я зову Улю не переставая, потому что только она может помочь мне выбраться из вязкой тьмы, в которой я мечусь.
Но однажды эту тьму прорывает яркий луч солнца. Я открываю глаза. Вижу распахнутое настежь окно, тихо шевелящуюся на ветру желтую занавеску. И сосны прямо у окна. Я отрываю глаза от них, потому что слышу слабый скрип двери. Ко мне идет, опираясь рукой на костыль, Васька Гундин.
— Вася, — говорю я и чувствую, как горячие слезы обжигают мне щеки, — Вася!
Он прикладывает палец к губам. Я хочу вытереть слезы, но у меня нет ни воли, ни сил, я не могу даже поднять руку.
— Вася, — шепчу я.
Он очень бережно и ласково вытирает мне лицо, а слезы все текут и текут, и я ничего не могу поделать с ними, потому что я — э то еще не совсем я, а все еще та изуродованная женщина с «Веста».
— Вася, Вася…
— Нинка, меня выгонят отсюда, если ты будешь разговаривать и плакать. Я и так к тебе с трудом пробился.
Я не могу понять, почему и куда выгонят Ваську. Разве можно выгнать человека с фронта? Разве можно его убить, если он так яростно хочет жить? С человеком ничего нельзя сделать. Только надо убрать сосны, чтобы они не лизали ржавые борта разбитого корабля.
— Вася, погаси сосны, — прошу я. Но он ничего не понимает. — Убери же сосны!
Читать дальше