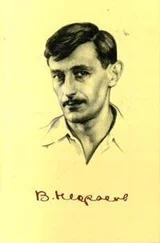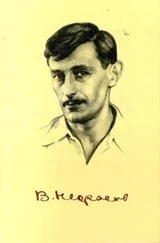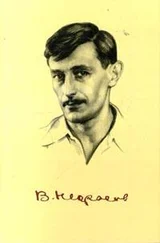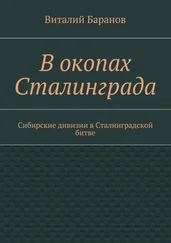Л-т Харламов (Харламов)».
Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно-барочным «X» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающих вокруг нее.
Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову посылать через передовую такую записку. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж…
Валега замысловатым немецким ключом с колесиком на конце открывает консервы. Чорт лопоухий!.. Полз с этими консервами через передовую. Тащил мою шинель. А заодно и записку принес. «Я и сказал, что иду как раз к вам…» Будто за угол, на второй этаж.
Валега сопит и никак не может открыть незнакомым ключом банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю — чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.
— Шинель только мешала, не по росту… А так — ничего. Там, левее чуть — разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью… Может, подогреть, товарищ лейтенант?
— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.
Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.
— Не стоит, Валега. И так слопаем.
И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушонка.
Часы показывают половину четвертого. Потом — без четверти четыре… Четыре. Ждем. Половина пятого. Пять. Тишина — шесть, семь… Светает. Перестаем ждать.
Еще один день, значит…
Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек остается двенадцать. Четверо раненых — из вчерашних еще — умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная вещь. Он умирает на моих глазах. Немолодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны был токарем по металлу. «Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая на колено руку, привязанную к дощечке от патронного ящика. — Без руки в нашом дили нияк не можна. Краще б ногу вже». — И он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто наше мнение чего-нибудь стоит. Мы говорили ему, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастет, и что нерв у него цел, раз он может шевелить пальцами. Это его успокаивало. Он даже начинал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную, напряженную улыбку. Шея напряглась. Судороги охватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть — тело, как железное.
— Столбняк, — сказал Карнаухов, — у нас в медсанбате умер один от этого.
Через два часа он умер.
Его фамилия — Фесенко. Узнаю это из красноармейской книжки. Фамилия почему-то знакомая. Я ее где-то слышал. Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить тогда связному, где комбат.
В наш блиндаж попадает полковая мина — 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из 25-сантиметровых бревен и сверху еще земля. Практически же он выходит из строя: перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.
Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит, — он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, глаза все время закрыты. Вероятно, тоже умрет.
Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше шести-семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.
Последнюю цыгарку, собранную из всех карманов, — наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, — выкуриваем втроем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.
Вода приходит к концу. В один термос попал снаряд. Мы заметили это, когда уже вытекла почти вся вода. В другом — литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот — ему никак нельзя. Он все время просит, просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой…» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю проваливайся. Пулеметы тоже просят пить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Некрасов В окопах Сталинграда [1947, Воениздат. С иллюстрациями] обложка книги](/books/420997/viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada-1947-voeniz-cover.webp)