Юрий Некрасов
В оковах Сталинграда
Хуже всего были руки.
Грубые, как черствый хлеб, они напоминали лавовое поле — Фридрих так сказал, мы ему верили, школьный учитель Фридрих знал все на свете. Лавовые поля — запекшаяся кровь земли, магматическая корка.
Наши руки, дубленые солидолом, порохом и сажей, по локоть убитые чужой russisсh землей, с узкими глубокими порезами алой плоти. Кажется, русские называли это cipki. Или как-то так. Кровавые расщелины.
Изнасилованная эта земля тоже была покрыта сотней cipki — траншеи и окопы, воронки и выбоины.
Гордый прежде город еще летом стоял из последних сил, к октябрю рухнул, сломался и гнил теперь вокруг нас, мертвый исполин с нержавеющим именем советского Führer.
«Что же творится у меня во рту?» — подумал я, но мысль ушла, не успела закрутить разум, он разучился удерживать больше одной мысли за раз.
В траншею втащили раненого ivan. Мы облепили его, жадные трупные мухи, трогали, суетились, пока Стефан не прикрикнул.
Уложили ivan на спину, левой рукой он закрывал дыру в груди. Меж пальцев пузырилось. Мы переглянулись в ужасе.
— Мы тебя выходим, — унижаясь, врал Фридрих, он протянул ivan пустые ладони, сложил лодочкой, склонился, поднял их ко лбу, — только напои нас.
— Вот, сюда, — по рукам пришла мятая кружка.
— Дайте воды!
В правую руку ivan сунули флягу, помогли наклонить ее, чтобы потекло, зажурчало.
— Из твоих рук, — умолял Фридрих, задыхался, — вот так, вот…
Мы смотрели, как он наклоняет кружку, вода булькала, переливаясь через край, текла прямо в открытый рот Фридриха. Священный миг.
На губах Фридриха закипела смола, он выбил кружку, покатился по земле, пытаясь руками, обшлагом, комьями земли ободрать с лица пузырящуюся маску.
Мы молча встали над ivan.
Тот уходил грязно, судороги выворачивали тело, как постиранное белье, но безотрывно смотрел на нас ледяными своими, беспощадными глазами.
Никто не осмелился закрыть их, когда он умер.
Тело бросили в подвал дома неподалеку, ближе подходить не стали, из раны в земле несло диким смрадом, боюсь представить, сколько таких ivan вперемешку с нашими осталось в этой дыре.
Вернулись за Фридрихом, тот стоял на коленях и жрал глину. Мы взяли его под руки и понесли домой.
Дом.
Этот город станет могилой для всех нас.
Безымянной могилой глупости и отчаяния.
Вечерами приходил миг, когда воздух уставал от разрывов. Канонада шептала где-то по ту сторону неба, шепелявая и безопасная. Любой, отличный от нее звук становился песней. В такие моменты мы предпочитали молчать. Уши отдыхали, тишина становилась фланелевой и нежной, и мы ели ее большими ложками. В такие мгновения что-то ломалось в привычном скелете солдата, лопался корсет, и мы рассказывали друг другу то немногое, что не могли больше держать в себя. Все самое дикое. Предсмертные откровения.
Мы сидели у костра, тесно прижавшись друг к другу. Гельмут штыком ковырял картофелины, проверяя, достаточно ли те испеклись. Стефан обкусывал ногти.
— Ты франт, Стефан, настоящий дамский угодник, — подтрунивал над ним Отто. — У тебя есть фрау? Ты из Берлина? — он задавал этот вопрос сотни раз. Никто из нас не жил в Берлине. — Миленькая золотоволосая фрау, как из сказки? У меня таких было с десяток. Я рано начал. О, Стефан, ты не поверишь…
Эльзасский коротышка Отто не мог усидеть на месте, подскакивал, мерил шагами этаж, на котором мы пряталась. Мы давно разведали это место, артобстрелом сняло верхние этажи, мы сидели в глубокой коробке без крыши, глухие стены с трех сторон, без окон и выбоин, в которые нас могли бы увидеть, длинный коридор на выход, засыпанный битым кирпичом, любой шаг отдавался эхом метров на двадцать. Мы не шумели, костер разводили за углом, грели руки, иногда ели, чаще просто пялились в огонь.
Возвращаться к своим было выше любых сил. Нужно было выбрать время, высыпать его под ноги, вернуться под утро, когда победоносное наше войско забудется истерическим сном алкоголика. Пили глухо, мешали одеколон и коньяк. О более жутких сочетаниях и говорить не хочется.
Руки мерзли, я прятал их в рукавах. Привалившись ко мне боком, сидел Гюнтер. Он разобрал мой автомат и рассматривал его, будто видел в первый раз. Странный малый, этот Гюнтер. Даже на фоне нашей шестерки, он выделялся.
Ушел воевать, подделав документы, на самом деле ему шестнадцать.
— Я убил крысу кирпичом, — не хотел вспоминать этот разговор, но мысли, как дым, идут, куда дует ветер, — потом паршивую собаку зарубил. Лопатой. И подумал, надо валить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
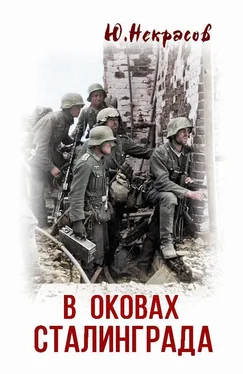




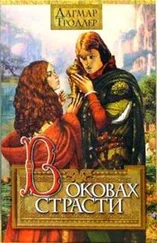


![Виктор Некрасов - В окопах Сталинграда [1947, Воениздат. С иллюстрациями]](/books/420997/viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada-1947-voeniz-thumb.webp)
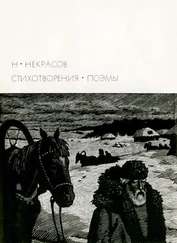
![Юрий Некрасов - Призраки осени [litres]](/books/433637/yurij-nekrasov-prizraki-oseni-litres-thumb.webp)

