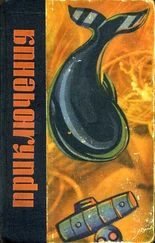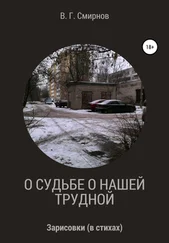Сейчас он — насекомое, застигнутое холодом. Вмерзнуть в лед?..
Он снова помчался, не разбирая направления. Бежать — значит жить, дышать, быть человеком, ощущать колющую боль в груди. Он влетел в заросли папоротника, высокого и крепкого, хваткого, как терновник, и, запутавшись, упал. Дальше темнели настоящие хащи, болотистые, непролазные, лунный свет беспомощно растворялся в них. Шурка ощущал влажное дыхание этих лесных, безразличных к человеку глубин. Он вырвался из папоротника и побежал обратно. Белый рожок безучастно плыл в черных ветвях. Он значительно приподнялся и изменил свое положение, и Шурка осознал вдруг, что месяц уже не может быть точным ориентиром. Он остановился и, отбросив всякую осторожность, закричал:
— Дядько Коронат! Дядько Коронат!
Мокрый от росы лист сел ему на губы. Забилась недовольно в ветвях потревоженная сойка. Шурка прислонился к стволу, капли пота холодили лицо.
С болезненностью ножевого укола прошлое соединилось вдруг с настоящим, давний ночной лес выплыл из памяти и, подрожав, поколебавшись, как в окуляре стереоскопа, совместился с этим лунным чернолесьем, и изображение ринулось куда-то в будущее, рождая в Шурке ощущение падения в провал, в бездонность времени; то, что случилось с ним, уже было, было однажды и, может быть, подстерегает его в будущем… Каком будущем, где? Вот так же метался он год назад по полесским чащобам в поисках партизан. Их группа окруженцев, разношерстная, голодная, почти безоружная и вечно спорящая, постепенно рассеялась. Их преследовали, как одичавших псов, и Шурка оторвался от своих после стычки на хуторе, затерялся. Он забивался все глубже в лес, твердо решив, что к этим, в серо-зеленых аккуратных мундирах, в глубоких касках, к этим торжествующим и наглым, едущим на больших колесах и гусеницах, заполнившим русское пространство ревом своих машин, к этим пунктуальным уничтожителям, колонизаторам не выйдет ни за что.
И странно: тогда, в сорок первом, ему было легче. Письмо? Да-да… Тогда он отвечал только за себя, а сейчас холщовое письмо стучало под пальтишком отраженным сердечным стуком, без конца напоминая о себе.
И вдруг неожиданная мысль вцепилась когтистой лапой: кто же теперь доставит письмо, кроме него? Кто?.. Некому. И он не может просто выложить этот кусочек холста где-нибудь на пороге в Груничах, он не может его вручить, как почтальон. Письмецо это действительно только с кровью. Значит… Значит… Снова тяжело ухнул, поглощая его, бездонный провал, холодок падения вошел в Шурку и куском льда засел где-то в ногах, в низу живота. Что, если Сычужный, зоркоглазый, рассудительный, хитроумный Сычужный, подкрепляющий находки Бати сухостью и точностью своих расчетов, что, если Сычужный, партизанский арифмометр, глядевший на Шурку холодными, как цифры, глазами, предусмотрел и такой вариант? Павло и Коронат исчезают, он, Шурка, остается один с холщовым письмом и превращается в Миколу Таранца, пока еще живого, пока еще живого, но идущего к Груничам, чтобы… ну да, к полицаям, к егерям, карателям, чтобы… Живой, но гибнущий на глазах карателей письмоносец — самое надежное свидетельство истинности письма. Смерть — самая подлинная роспись, самая неподдельная печать.
О!..
Не может же он вернуться в отряд целым и невредимым, убив всякую надежду на спасение, подписав приговор семистам товарищам, ясно, не может. А чтобы доставить письмо, он должен, должен умереть, как умер Микола. Он — обреченный почтальон, он должен умереть или в руках палачей, или, если сумеет, в ту минуту, когда выйдет навстречу им. Да-да, все определилось, все стало понятным.
Шурка смотрел в ночь замороженными глазами. Зыбкая чернота, пострашнее полесских хащей, открылась перед ним, и он понял, что ему остается лишь отмахиваться руками от этой черноты, лишь убегать, как убегают во сне, скользя и не двигаясь, а она будет теперь надвигаться неотвратимо, словно полая вода на заливной островок. Может, и Коронат намеренно скрылся как можно дальше, оставив Шурку наедине с лесом? Может, задание у него такое или сработал здесь дальновидный замысел Сычужного, расписавшего в своих расчетах все случаи, все траектории их пути, далее рикошетные?
Подозрительность и недоверие, запущенные Сычужным, бумерангом коснулись Шурки и поразили его враз. Он хватал воздух, ставший сухим и неудобным, как печной кирпич, он никак не мог вобрать этот воздух в грудь и давился им. Ну да, конечно, Сычужный понял, что Шурка не посмеет вернуться назад, не выполнив задания. Кто-нибудь другой, но только не Шурка. Шурке нельзя. О, почему он не вложил письмо Миколе тогда, на форсировании «железки» или возле брода, едва лишь они осознали, что их могут встретить «охотники»? Почему понес этот кусочек холста до самого конца, строго соблюдая наказ?
Читать дальше